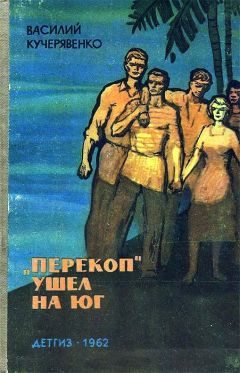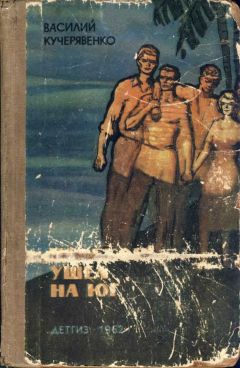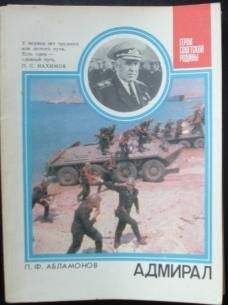Владимир Жуков - Хроника парохода «Гюго»
— Десять, тридцать пять, тридцать восемь, сорок девять... Семьдесят шесть... («А вдруг тут больше, вдруг и прикопленные им, хоть на самую малость, что тогда?»)... сто два, сто пятнадцать. Сто двадцать семь! — Собрал опять в пачку, потряс ею перед носом шерифа. — Вот! Ясно? — И повернулся к консулу: — Возьмите.
Нет, он был просто молодцом, консул. Тут же нашелся, хоть у него — я заметил — лоб прямо вспотел весь.
— Вопрос, я думаю, исчерпан, шериф, — сказал он. И нам с Федькой повелительно: — Отправляйтесь в машину. Быстро!
— Нет! Не... — начал было Жогов, но я, как прежде на насыпи, резко толкнул его в плечо, потащил к выходу. И еще тот, другой человек, наш, шел рядом — это мне помогало.
Не знаю, о чем консул еще толковал с шерифом, и со стариком украинцем, и с тем полисменом, что так ловко снимает отпечатки пальцев. Этих людей я уже больше не видел, да и не интересовали они меня.
Мы сели в машину. Пришел консул и велел мне выйти. Влез на заднее сиденье, а потом я снова сел, и получилось совсем как рано утром, когда мы ехали в полицейской машине.
Всю дорогу молчали. Временами консул оборачивался и чуть заметно ухмылялся. Я тоже посмотрел в заднее стекло.
По мокрой, блестящей бетонке метрах в двадцати за машиной мчались два мотоцикла. Они держались, как истребители в паре — один чуть впереди, уступом. Я вгляделся и в первом, головном мотоциклисте узнал сержанта Мартина. Опять капюшон его куртки был поднят, лицо наполовину закрывали большие защитные очки. И пока я смотрел, показалось, что мотоциклисты приблизились к машине и Мартин — вот ведь как! — весело подмигнул мне.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Огородов с Алей шли по дорожке, по мокрому кладбищенскому песку. Все уже потянулись к автобусу, и надо бы идти коротким путем, не так — вдоль каменной невысокой ограды.
Огородов молчал. Слово у него всегда будто приготовленное заранее, а тут молчал. И раньше не мог проронить ни звука — когда гроб поставили у свежей могилы и началось что-то вроде траурного митинга.
Первым говорил Полетаев. Про всенародную войну и про то, как Андрей Щербина в самый трудный час оборонял Москву, а потом сражался в Сталинграде. И еще сказал: здесь, где мы, не рвутся снаряды и бомбы, но Щербина все равно нес службу, как на фронте, и погиб на посту, геройски.
От судового комитета выступил Измайлов, за ним взобрался на земляной отвал Стрельчук. «Щербина главным в перешвартовке был. Если б не он, не миновать аварии... Убытки какие предотвратил!.. А еще он старался время рейсовое сэкономить. Не вышло! Но я предлагаю все равно ударно действовать, наверстать время в память его» — так закончил боцман свое короткое слово.
Последним говорил Маторин. Поддержал боцмана и предложил вывесить в красном уголке портрет Андрея. Пусть, сказал, молодежь, какая есть сейчас и какая еще будет работать на пароходе «Гюго», пусть молодежь смотрит на портрет и равняется.
Потом стали слышны удары — звонко так стучал молоток по гвоздям. Могилу быстро засыпали, навалили самодельных венков с кумачовыми лентами и сверху еще один, большой, что был заказан в похоронной конторе, — золотом слова на нем.
Люди стали расходиться, и электрик увидел, что у могилы остался он один. Тогда-то его и окликнула Алферова, пошла рядом.
Огородову вспомнилось, как утром, когда молнией ударила по судну новость, что исчезли двое, Алевтина прямо набросилась на него: «Слышал?» Он кивнул, а она, собственно, и не спрашивала, твердила не то ему, не то себе: «Не верю! Ерунда какая-то!» Потом беготня, народ опрашивают, велят рундуки проверить. Огородов еще раз Алевтину встретил, ввернул: «Не ерунда, как видишь!»
Но ему самому в пору было Алферовой или еще кому кричать: «Слышал?» Отстоял в почетном карауле и срочно отправился к Маторину. Застал его в каюте, начал расспрашивать, да парень твердил одно, что сам ничего не знает. Видно, уже в сотый раз твердил, начиная с того момента, как докладывал вахтенному, — ни одной подробности, никакого стоящего наблюдения.
— История! — сказал электрик. — Неужто не вернутся?
Тихо сказал, будто на ухо. А Сашка в крик:
— Вместе ведь с Сергеем с жизнью прощались... Разве так бывает?
Огородов понимал парня, а что ответить ему, не знал. Не знал, хоть плачь, может ли человек проявить отвагу и следом подлость. А Сашка снова:
— И... и это когда Щербина... там... лежит! Объясни, ты старый! — Он повалился на койку, загородился подушкой.
Электрик нашел Оцепа, спросил:
— Дружок твой Федька, как думаешь, зачем на берег отправился?
— Хм, — забеспокоился кочегар, — ты слова-то выбирай. Тоже мне, дружок!
— Выбирай не выбирай, а вместе бродяжили, факт!
— Ну бродяжили! И что? Перед тобой сейчас кто — я или человек этот мелкий, Жогов? Глаза-то протри. Помнишь, меня Щербина отбрил однажды в Петропавловске? Когда лез к нему насчет танков. Про одного кореша у них в морской пехоте рассказал, как тот трепался, когда стрелять надо было... Андрей в гробу лежит, а ты треплешься!
Тут еще Рублев присутствовал, решительно сказал:
— Верно, братцы, Андрик бы сейчас самое точное определение дал. В точку бы врезал. Как из пулемета — про сволочь эту, изменника. И пацана увел. Ясно, увел!
— Стой, — сказал Огородов. — Остановись. Увел, может быть. А чем он его сманил, Левашова?
— Может, железную дорогу посулил? — усмехнулся Оцеп. — Вишь, сказал, сколько паровозов в здешних краях на палубу наваливает — мы себе тоже накупим.
Огородов шутки не принял, ушел. Только уверился: неравноправный союз у Левашова с Жоговым, и закоперщиком, конечно, Федька был. Вот только чем он сманил парня? Чем? Найти причину электрик так и не смог.
И, вспомнив все это, он вдруг подумал про шагавшую рядом Алевтину: каково ей-то во всей распрекрасной истории? «У нее особый счет к событиям должен быть, — решил электрик. — Как ни крути, а она, было время, в близкой дружбе с Сережкой состояла...»
Автобус с возвращавшимися с кладбища подкатил к складу, почти к самому пирсу. Шли от него, растянувшись цепочкой, и пароход показался совсем серый под нескончаемым дождем, как мышь. И пустой, будто брошенный, — лебедки не стучат, людей не видно, никто на палубе не работает, хоть и оставался народ на судне, не все поехали хоронить. Только паровозы, надув бока, возвышаются и, почудилось Огородову, сердятся, что вышла заминка, что не везут их куда следует. И льет, льет с неба — прохудилось там, что ли, флага не разберешь, поник совсем...
Дверь своей каюты электрик отворил с единственной надеждой полежать чуток, но увидел — гостья сидит. Пришла первой, без приглашения, не сняв даже, мокрого плаща, и поджидает хозяина, грустно облокотившись на стол.
Опять Алевтина Алферова. Собственной персоной.
— Ну что? — спросил Огородов. — Выкладывай скорее, а то устал я.
— Ничего. Так, — сказала Аля. И, помолчав, прибавила: — А я, знаешь, Реуту согласие дала. Еще прошлым рейсом, когда в Ванкувере стояли.
— Черт бы вас всех побрал! — Огородов хотел это про себя подумать, но у него получилось вслух, и он даже повторил: — Черт бы вас всех побрал! Зачем ты мне это говоришь? Я и так знаю.
А она:
— Нет, не знаешь. Я замуж за него выйти согласие дала.
А он опять:
— Ну и черт с тобой! Выходи. Делай как хочешь. Зачем ты мне это с е г о д н я говоришь, с е й ч а с?
И стало как-то очень тихо, точно все звуки исчезли. Огородов сидел на койке, опустив руки на колени. Потом встал, подошел к столу и погладил Алевтину по волосам. Осторожно, еле касаясь.
Она подняла голову и посмотрела на него. И тут Огородов увидел, как из уголков ее глаз, широко открытых, зеленых, медленно выкатываются слезинки. Они катились по щекам, падали ему на руку. Казалось, слезы обжигают кожу. И он сказал шепотом:
— Ладно, что поделать...
А она ухватилась за его руку, крепко, просто сжала и совсем сильно заплакала, всхлипывая, не стыдясь.
Он долго молча стоял возле Алевтины. Снова затихло все. Наверное, потому так явственно и услышал те слова, что донеслись в открытый иллюминатор, а вернее, уловил их смысл, потому что и не слова это, возможно, были, так — шум, выкрики, движения, но Огородов понял, отчего они, что означают. И безжалостно выдернул свою руку, выскочил за дверь.
Бежать было недалеко — каютка электрика прямо у выхода на палубу, да еще после перешвартовки «Гюго» стоял как раз тем бортом к причалу, что ближний к каюте. Вот Огородов и увидел все с первой же минуты, все до мельчайших подробностей: и как легковая машина выкатилась на деревянный настил, вишневого цвета машина, и что бока у нее были заляпаны грязью дальних дорог, и как притарахтели за легковушкой два полицейских на мотоциклах, тоже в грязи все, в промокших куртках, — притарахтели и осадили свои аппараты по краям автомобиля. А потом дверца распахнулась, и вылез какой-то человек в штатском, шофер, что ли, открыл заднюю дверцу, и появился Федька Жогов с забинтованной головой, с макинтошем, перекинутым через руку. Согнувшись, вылез и так остался стоять, голову низко опустил, смотрел исподлобья. Следующим был полноватый человек, можно даже сказать, толстый; он важно держался и вроде весело что-то сказал тому, в штатском, что вылез первым, и Огородов понял, что это консул. Ну а потом обнаружился Сергей Левашов. Где он так перемазался, трудно было даже вообразить. Словно его боцман посылал форпик цементной болтушкой мазать и он только что не из вишневого автомобиля, а из люка выбрался. Оглядел пароход, паровозы на палубе, обвел взором надстройки и вдруг потупился — вроде бы от смущения и застенчивости. Но это секунду всего, мгновение; потом они пошли к трапу — этот в штатском, который за шофера, забинтованный Федька, понурый, ступающий тяжело, толстый консул и Левашов.