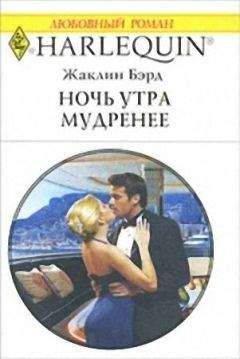Глеб Алёхин - Тайна дразнит разум
И все же свершилось педагогическое чудо! За один год Калугин подготовил меня в техникум. Я чту своего терпеливого наставника. Он спас меня. И все же меня влечет к Передольскому.
С профессором меня свела Старая Русса: там, в клубе железнодорожников, он прочитал лекцию о системе йогов и продемонстрировал силу внушения. Его способность передавать мысли на расстоянии потрясла меня. Белое полотенце я чалмой уложил на свои упругие кудри и часами пристально глядел на блестящий шарик никелированной кровати.
Это мое увлечение еще больше подогрел Новгород: здесь выступали гипнотизеры: комиссионщик Коршунов, инженер Костинский, садовник Сильвестр, врачи Пунпянер, Фриккен и конечно же Передольский.
Теперь мне, жителю Новгорода, рукой подать до Ильинской улицы, где двухэтажный дом из толстенных бревен Владимир Васильевич превратил в музей и библиотеку. Здесь мне нравится все: и богатейшая коллекция новгородских древностей, и большие застекленные шкафы с новгородикой, и сам хозяин — неотразимый маг.
(Дорогой читатель, речь идет о подлинном историческом лице.)
Коллекционер только что приобрел редчайшее свидетельство о статуе, запрятанной среди фигур памятника Отечеству. Ясно, что тайна захватила меня. Невольно вспомнилась калугинская фраза: «Тайна дразнит разум». И сердце екнуло: ведь мой учитель преподает историю — ему также это интересно.
Я взялся добежать до Калугина. Владимир Васильевич одобрил мой порыв и сел за стол снять копию с письма, адресованного Микешину. Профессорская борода прикрыла наклонно стоящую рамку, почему-то закрытую бархоткой.
Возникла догадка: «Уж не портрет ли чей?.» Откуда было знать, что рамка с черной заслонкой сыграет немалую роль в жизни не только профессора, но и Калугина, и даже срикошетит в меня.
А пока что я с конвертом в руке бегу и думаю о скрытой фигуре памятника. Мне полагалось свернуть в Троицкую слободу, а я с моста — прямо в Кремль.
Раньше монумент с бронзовой круглой державой, окруженной статуями, виделся мне большенным футбольным мячом среди защитников и форвардов сборной России, теперь же — шарадой в лицах.
Отыскивая таинственное изваяние, я как следователь вглядывался в каждую статую и вспоминал калугинское задание — изучать биографии писателей, отлитых в бронзе.
Вот они, дорогие — Ломоносов, Фонвизин, Карамзин. Крылов, Жуковский, Гнедич, Грибоедов — и самые близкие — Пушкин, Лермонтов и Гоголь! Казалось, я никого из русских литераторов не пропустил на пьедестале, а учитель взял да и уколол меня: «Ты обошел видного поэта-трибуна. Он — историк, политик, философ, математик и публицист. Кстати, похоронен на берегу Волхова». На берегу Волхова, известно, погребен Державин, но последний не из математиков и философов, хотя и писал философские вирши.
И вдруг меня осенило: «Коли пропущенный мною поэт-трибун — публицист, так не он ли призывал к свержению царизма и не его ли фигура стоит в секрете?» Определить в Новгороде место действия былинных героев Садко и Буслаева нетрудно, но как обнаружить скрытую личность поэта среди ста тридцати фигур? Мой учитель — диво: любое задание преподаст как тайну. Любопытно, что скажет о моей догадке?
Обидно: не застал Калугина. Меня встретила его мама. Она, сельская учительница, много лет ежемесячно опускала в копилку один рублик — теперь она хозяйка домика с верандой и палисадом.
По двору старушку шумно сопровождали собаки, куры, утки. В длинном черном платье с белоснежным воротничком, она осторожно отвела седую прядь от темных участливых глаз:
— Ты что, Глебушка, с рассказом? — Глядя на мой конверт, Анна Васильевна одобрительно моргнула: — Выполнил урок?
— Нет, — смутился я, оправдываясь. — Пытался, да никак. И боюсь… не выйдет… Восемнадцать стукнуло!
— Понимаю, мальчик. — Стоя в ажурной тени рябины, Калугина спросила: — А ты не задумался, почему твой учитель, историк, пичкает тебя не летописями, экспонатами, а литературой?
Не зная, что ответить, я отмолчался. Она продолжала:
— Потому что мой сын отталкивается от твоих возможностей. — Старушка подняла седовласую голову и глазами указала в сторону золотых куполов Софии: — Видел смерч?
Охотно рассказал я и что видел и чего не видел, в пределах правдоподобия: привирал с малых лет. Она тяжко вздохнула:
— Слава богу, обошел нашу слободку. Прошу тебя…
Анна Васильевна привела меня в кабинет сына, усадила за письменный стол, положила передо мной лист бумаги:
— Порадуй учителя, опиши смерч…
— Не успею!
— Успеешь, — ее чуткая рука потрепала мои кудри. — Его срочно вызвал известный тебе Воркун: зря не потревожит…
Ивана Матвеевича Воркуна — дотошного чекиста — я знал еще по Старой Руссе. Раз позвал, — значит, что-то приключилось…
Словно в поиске ответа, я осмотрел книжные стеллажи, подоконник с газетами, сторожкую стрелку барометра, будильник и остановил взгляд на плотной тетради, одетой в малиновую кожу. Я не раз видел этот дневник в руках учителя, но тот почему-то избегал говорить о тетради и никогда не оставлял ее на столе.
«В самом деле спешил», — заключил я, оглядываясь на дверь, и опасливо открыл титульный лист загадочного альбома.
Крупные заглавные буквы: «ЛОГИКА ОТКРЫТИЯ», а чуть ниже прописной бисер: «Познай число поворотов ключа проникновения! Но помни: число управляет всем — мистика, закон управляет числом — наука!..»
Я листал страницы, пока не нашел запись о себе:
«Мой ученик. Родители видят в нем только спортсмена. Профессор пророчит ему карьеру краеведа. А сам Глеб мечтает стать гастролирующим гипнотизером или Шерлоком Холмсом. На деле у него необузданная фантазия. Она-то, в рамках литературной учебы, и обеспечит ему построение сюжета и разработку характеров. Сейчас стараюсь привить ему вкус к слову и страсть к художественной прозе. Начал с новгородских былин, теперь подвел к скульптурному ансамблю писателей России. Надеюсь, моя логика поможет ему открыть свой стиль — стиль философского романа…»
Я нехотя отложил калугинскую тетрадь. То ли во мне колыхнулась любовь к нему, то ли я устыдился, то ли поверил в свои силы, а может, все вместе взятое, но мне страсть как захотелось обнадежить наставника — блеснуть словцом и образностью.
Что со мной? Я буквально набросился на чистый лист, ощущая напор воображаемой воздушной волны. Да, да! Писал почти без помарок:
«Ветрище хватил ильменского пенистого зелья и лихо вторгся в белохрамный город, рассеченный рекой. Гуляка с лету прочесал улицы, сорвал ветхие крыши, а в саду Передольского повалил дупляной клен. Затем налетчик, высотой с гридницу, смерчем ворвался на звонко кипящую ярмарку, сгреб полосатую палатку, завихрил базарный мусор и, взбурунив Волхов, сломался о каменную твердь новгородского Кремля.
Палаточная парусина вылетела на крепостную площадь и зацепилась за монумент русского Тысячелетия. Местный нэпман Морозов искренне возрадовался: „Русь-то под нашим знаменем!“
Объявились, конечно, и другие толкователи. Из окна кабинета редактор местной газеты взглянул на высоченный памятник — единственное торчило — и авторитетно заявил: „Никакого чуда!“
Из типографии вышел сухопарый наборщик в очечках, увидел холстину на микешинском сооружении и, улыбаясь в колючие усы, мысленно набрал заглавие фельетона — „Треп и тряпка“.
Бронзовые монархи кое-кому намозолили глаза, а тут еще балдахин посреди Кремля. И политпросветчик, зло щурясь, смял на своей груди красную рубаху: „Взорву трон!“
Светлоглазый чекист в солдатских ботинках поднял с земли самодельную листовку: „Люди православные! Не дозволим разрушить памятник России! Выйдем крестным ходом и обратимся молебствием к Всевышнему…“
А небо порошило на прохожих подсолнечную шелуху, папиросные окурки, фантики и даже кульки, свернутые из листов церковного архива. Такой необычный сюжет обвил литую державу».
Я поставил точку. И вместо того чтобы бежать к профессору составлять книжный каталог, кинулся в столовую и помог Анне Васильевне накрыть на стол. Сейчас вернется учитель и конечно же похвалит мое творчество.
Но он почему-то запаздывал. Неужели и вправду ЧП?
НЭПОВСКИЙ АЛХИМИК«Зачем вызвал?» — думал Калугин о чекисте, встретив его глазами. Иван — ученик особый. Отвлеченных вопросов не приемлет: затыкает уши, крутит головой и, краснея от злобы, кричит: «Я пастух!» Однако он умный от природы, решал сложные жизненные задачи. Теорию признавал только в практической упряжке. Увлечен не книгами, а стрельбой, охотой, собаками и — особенно — буденновскими скакунами.
Когда журнал «Под знаменем марксизма» напечатал программную статью Ленина о борьбе на философском фронте, Калугин познакомил Ивана с ней, учитывая строй его мышления: