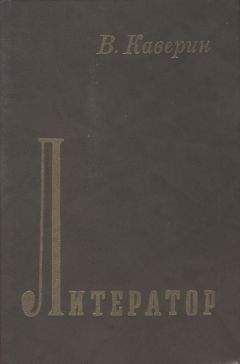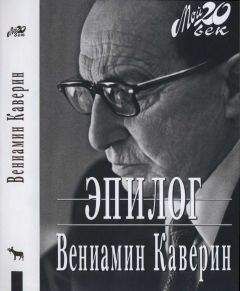Вениамин Каверин - Избранное
— Ну да!
На Фонтанке почему-то шел лед (в феврале), и огни в темных рисунках воды то закрывались, когда он медленно находил на них, то открывались. Часовой ходил туда и назад, далеко, в освещенном саду Инженерного замка. Пошел снег, и они долго смотрели, как, прямой и тяжелый, он летел мимо фонарей и сразу пропадал в темноте…
Потом были другие станции, хорошие и плохие, любимые и нелюбимые. Они так и назывались — станции. Сады закрывались рано, но в Летнем, например, была лазейка в колючей проволоке между мостом и решеткой, там, где теперь металлический щит. В Михайловском — тоже, но там они бывали редко: на каждом шагу сердитые сторожа, должно быть, из музейной охраны.
Везде было холодно, снег, темный, зимний воздух, руки, которые он целовал и грел дыханием, волосы, которые рассыпались, тяжелые, холодные пальто, под которыми они обнимали друг друга, — все, о чем они оба начинали думать с утра и запоминали (так им казалось) на всю жизнь.
Очень долго они не могли догадаться, что можно никого не бояться, ни сторожей, ни прохожих, что можно не мерзнуть, не дожидаться вечера, не лазить в сады под колючей проволокой, не бегать от мальчишек, что у Карташихина есть комната, которую можно просто запирать на ключ.
Потом догадались.
2Никогда он так много и с такой энергией не работал, как в эти дни. Именно в эти дни он впервые задумался над постоянством внутренней среды как условием свободной жизни организма, — мысль, на которой впоследствии были основаны его лучшие книги. Найти законы, определяющие стремление к этому постоянству, — вот задача!
Он понял, какое место в этом огромном вопросе могла занять его небольшая работа. Она не удалась, сложный физиологический прибор нельзя построить без лаборатории, без опыта, без денег. Но он и не рассчитывал на удачу. Он сделал работу в уме и продолжал думать.
Очень странно, но все это было одно — Машенька, ночные прогулки по Летнему саду и эти мысли, которые до поры до времени он просто запоминал, не стараясь объяснить до конца. И здесь и там было что-то фантастическое, не очень прочное и слишком счастливое. И такое далекое от понятий жены, семьи, лаборатории, зарплаты. Из всех невероятных мыслей, приходивших ему в голову, эта показалась бы ему самой невероятной.
Поэтому он был поражен, когда однажды после заседания научного студенческого кружка, на котором он выступал в прениях, Щепкин предложил ему работать в своей лаборатории.
— Времени нет, Александр Николаевич, — вдруг мрачно сказал Карташихин.
— Ну вот! А я уже Илье Григорьевичу рассказал. Он говорит — надо ставить.
Карташихин немного покраснел. Ильей Григорьевичем звали Хмельницкого.
— Что ставить?
— Как что? Эту вашу штуку. Сердце.
3Первые впечатления Карташихина в Институте органов чувств были противоречивы и бессвязны. С уважением и страхом слушал он споры аспирантов — молодых людей в роговых очках, знающих, кажется, все на свете. Все сплетни были известны им и все теории; он только моргал и хмурился, когда они заводили разговор о хронаксии Ляпика, об афферентных системах Орбели. Они сыпали именами. Прошло немало времени, пока он убедился, что они, кроме этих имен, почти ничего не знают.
Но один человек с первой же встречи занял в его жизни прочное место: Хмельницкий.
Квадратный, с львиным лицом, сгорбленный, на низких ногах, он ходил, глядя прямо перед собой с рассеянным и грозным выражением. Это была погруженность глубокая, почти страшная. Усилием воли он возвращал внимание, когда к нему обращались. Он слушал насупясь; мрачно, но вежливо он давал указания. Небритые щеки свисали на старомодный высокий воротничок…
Когда Карташихин явился в институт, этот человек, которого считали одним из крупнейших ученых Советского Союза, находился в глубоких сомнениях. Последние годы он занимался влиянием коры мозга на деятельность внутренних органов человека — почку, селезенку, печень. Предварительные сообщения были опубликованы в 1926 году и поразили физиологов всего мира. В этих неуклюжих статьях, написанных тяжелым языком, напоминающим церковные проповеди, впервые была подтверждена опытами идея глубокого влияния внешнего мира на деятельность внутренних органов человека.
Но опыты больше не удавались. Все было повторено с математической точностью — время дня, обстановка, люди. И неудача следовала за неудачей. Тогда он вернулся к первоначальной мысли, возникшей при изучении явлений гипноза. Он снова провел ее через все ступени работы, пытаясь восстановить самый ход своих размышлений. Все было верно — и все неверно; одни выводы опровергались другими. Где-то была ошибка, и он каждый раз повторял ее с точностью, равной точности его экспериментов.
Проверка, поставленная в Токио и Париже, не подтвердила его сообщений. Кембридж сомневался, — было бы лучше, если бы он не печатал своих сомнений в каждом номере «Физиологического журнала»…
В поношенном пиджаке, грустный и грузный, он бродил по своему институту. Он всегда небрежно одевался и всегда относился к этому с еще большей небрежностью, производившей величественное впечатление. Но прежде он не задумывался среди разговора, наморщив покатый лоб, сложив на груди большие квадратные руки…
4Старый кларнетист осторожно взял за стеной низкую ноту и сейчас же, приоткрыв дверь, испуганно посмотрел на сына.
— Играй, папа, ты нам не мешаешь.
Не вставая, Трубачевский потянулся к лампе — поправить прогоревший бумажный колпачок, но колпачок упал, и, махнув рукой, Трубачевский отвернулся.
Движение ли это, печальное и сердитое, было тому причиной или необыкновенное расположение света и тени, но вдруг он стал не похож на себя. Как на старинных полотнах, из-под одного лица проступило другое. Это было лицо взрослого человека, нервное, но сосредоточенное, с законченными, определившимися чертами.
И он как будто угадал, о чем думает Карташихин, поднимая с пола колпачок и прилаживая его к лампе.
— Ты читал «Домби и сын»?
— Не помню.
— Этот Домби, — сказал Трубачевский, — всю жизнь был подлецом. Потом у него умер сын, изменила жена, он разорился — и переменился. Ты в это веришь?
— Верю.
— А можно сознательно себя изменить?
— По-моему, да.
Трубачевский помолчал.
— Тут можно страшно ошибиться, если сознательно отказаться от себя, — медленно сказал он, — наоборот, нужно доказать и себе и другим, что ты дорого стоишь. Но доказать, все-таки доказать! А вот тебе, например, ничего не нужно доказывать. У тебя это само собой выходит.
— Ничего у меня не выходит.
— Врешь.
Несколько минут они сидели молча и слушали, как рокотал на низких нотах кларнет. Партия была несложная. В паузах старик ногой отбивал такт и вдруг начинал тихонько петь.
— Мне Сергей Иваныч однажды рассказывал, как он приехал в Ленинград, — сказал Трубачевский, — сразу после гимназии, девятнадцати лет. Он ехал на извозчике рано утром, еще до зари. Дома, дома, окна отсвечивают, люди спят. Два миллиона. И пусто, серо. Он чувствовал, что его нет и не будет, ничего не останется, геологический отпечаток. Вот что страшно!
— Это уж бред, — сказал Карташихин.
Папа увлекся, и кларнет уже не рокотал за стеной, а буянил, то падая вниз, в басы, то без конца повторяя тонкие трели. И мелодия была, теперь слышна, должно быть, второй кларнет играл уже к за первый.
— Может быть, и бред, — помолчав, возразил Трубачевский, — но я его понимаю. И во мне его понимают, — добавил он, погасив папироску о каблук и принимаясь нервно мять ее в пальцах. — Его понял во мне, например, Неворожин. Ты знаешь, этот человек хотел решить меня, как задачу. Он мои желания разгадал. Если бы они исполнились… Впрочем, они исполнились. Послушай, ты когда-нибудь думал за других?
— Думал.
— А я — нет. Вот чему нужно научиться.
«А Лев Иваныч прав, — думал, возвращаясь домой, Карташихин, — мы стали другими, и дружба не та».
«…Коля никогда не соглашался ни на половину, ни на три четверти того, что хотел получить. Большие желания. Либо прославиться, либо повеситься — вот его характер. Теперь он понял себя без преувеличений. Он стал другим».
— А ведь я просто проморгал его, — вдруг сказал он вслух, остановившись и машинально отмахиваясь от знакомых мальчишек, носившихся вокруг него на коньках посредине Пушкарской. — Как это произошло? Кто виноват?
«…Кажется, это Виленкин говорил, что все жители Советского Союза делятся на две категории — идущих Седьмого ноября по мостовой и стоящих на тротуаре. Какая ерунда!»
5На другой день Карташихин отправился в университет: пора было наконец узнать, что думает о деле студента Трубачевского отделение истории материальной культуры. Он был очень удивлен, не найдя никаких следов этого Отделения, — уже полгода прошло, как его переименовали. Но он нашел Мирошникова, Дерюгина и других товарищей Трубачевского по факультету. Разговор был очень неприятный, и мысленно он постановил считать его несостоявшимся и не передавать Трубачевскому ни слова. Он был выслушан недоверчиво и хладнокровно. Ему не возражали, но с ним не соглашались. Это не было сказано вслух, но, кажется, они не находили ничего невозможного в том, что Трубачевский мог обокрасть архив.