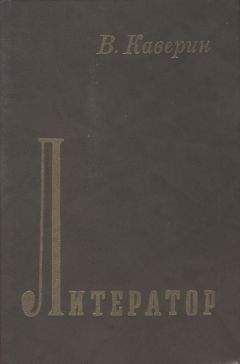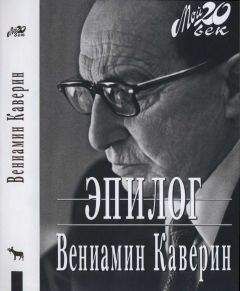Вениамин Каверин - Избранное
Ему приснилось, что кто-то стоит посредине комнаты и с укоризной качает головой. Отец выглядывает из дверей. В комнате вдруг появляется солнце. Он покрепче зажмурил глаза, надеясь во сне, что все это сейчас пропадет, а он будет спать так же спокойно, как раньше. Но отец вошел, а этот маленький и усатый, которого он видел в щелку между подушкой и одеялом, сердито засмеялся и полез на стул. Отец все говорил чушь, которую он не стал бы слушать и наяву, не то что во сне, но маленький — это было интересно — стоял на стуле и делал что-то загадочное руками.
Потом одеяло поехало по лицу, и стало так светло, как наяву никогда не бывает. Он еще надеялся, что они оставят его в покое, и снова натянул одеяло. Но одеяло снова поехало, и он догадался, что давно уже не спит, что этот маленький и усатый человек — Лев Иваныч и что он лез на стул не для того, чтобы делать что-то загадочное руками, а чтобы отцепить от шпингалета штору.
— Лев Иваныч, это вы? — не веря глазам, сказал он.
— В брюках, во всем — в постели? — сказал Лев Иваныч. — Два часа. Небритый. Что такое? Что такое? Встать! — вдруг закричал он таким голосом, что старый Трубачевский вздрогнул и робко засмеялся, а молодой невольно вскочил с кровати. — Голову в воду! Ты кто такой…
Он не окончил, но Трубачевскому так ясно стало, кто он такой, что он покорно пошел в кухню и сунул голову под водопроводный кран.
Очень внимательно, но с удивлением старого человека, уже начинающего забывать, что в двадцать лет хорошо, а что плохо, Лев Иваныч слушал. Он ожидал встретить растерянность, ненависть, злобу. Ничуть не бывало! Трубачевский был вял, равнодушен.
Он ничего не пропустил. Все было рассказано, начиная с той минуты, когда он появился в доме Бауэра, до разговора с Дмитрием в баре. Он рассказал о своих разысканиях. Все, что он узнал о Неворожине, было записано по годам, в виде хронологической канвы, как будто Трубачевский в самом деле собрался писать о нем историческую монографию. Он начал с даты его рождения, потом рассказал о смерти отца, о жизни в доме отчима и т. д. Когда он дошел до службы Неворожина в исполкоме Северной коммуны, Лев Иваныч остановил его.
— И я там служил, — просто сказал он.
— Как? Вы?
— Да.
— И что же? Вы помните его?
— Очень смутно, — сказал Лев Иваныч. — Так, так… Ну, дальше!
Трубачевский рассказал о Неворожине и вернулся к себе. Можно было, разумеется, пропустить некоторые подробности. О своих отношениях с Варварой Николаевной он мог бы рассказать короче или совсем не рассказывать. Но он рассказал. Видно было, что для него теперь важно другое.
Так же как и Карташихин, Лев Иваныч не стал упрекать Трубачевского. Он оценил это равнодушие и понял, что под ним таятся более сложные чувства и мысли, которые до поры до времени лучше не трогать. Но с Карташихиным он в тот же вечер поговорил — и очень серьезно.
— Хорош друг, — с горечью сказал он ему. — Нет так нет, забыл — и горя мало! Черта с два вышло бы у нас, если бы мы были такими друзьями.
Карташихин вспыхнул было, но Лев Иваныч только посмотрел на него тем ровным, знакомым с детства и как бы ничего не выражающим взглядом, и он замолчал.
5«Эта история больше себя самой, а люди, о которых рассказал Трубачевский, больше тех ролей, которые они играли. Другую роль при случае сыграл бы, например, Неворожин, И нет никаких оснований полагать, что он не рассчитывает на этот случай».
Лев Иваныч сел на постели и зажег свет. Ну вот! Все время спал до шести. А сегодня, пожалуйста, четверть шестого! Видно, старость приходит…
— Ну-ка, припомним — как было дело? — сказал он вслух.
Никакого дела не было. Молодой человек, лет двадцати пяти, в оборванной солдатской шинели, появился в иностранной секции исполкома Северной коммуны. Он был белокурый, бледный. Со всеми он держался вежливо, но ни с кем у него не было никаких отношений — ни плохих, ни хороших. Он принимал участие только в деловых разговорах. Ни от кого он ничего не требовал и никому не был обязан.
Он никогда не рассказывал о себе, и о нем ничего не знали. Судя по анкетам, он не служил в армии. Но в том, как, работая, он останавливался и смотрел на ногти, было что-то гвардейское.
Его не любили. Но он был превосходный переводчик, пунктуальный, уверенный, неторопливый. Он хорошо зарабатывал, а все еще ходил в своей грязной шинели, точно боялся снять. Он отлично знал языки, его оценили. И вдруг — кончено! По делу о контрреволюционном заговоре он был арестован зимой 1921 года.
Лев Иваныч встал. В комнате было жарко, он открыл форточку и вышел в коридор. В коридоре было прохладно, но шумно. То начинал петь хор, то ржали и переступали кони, то где-то в двух шагах играла фисгармония, то ревела толпа, даже отдельные голоса были слышны. Это храпел у себя Матвей Ионыч.
Усмехаясь, Лев Иваныч послушал его, а потом приоткрыл дверь к Ване. Темно и тихо. И тоже душно; нужно бы перед сном проветривать или на ночь закрывать радиатор.
Он подошел к постели. Карташихин спал, глубоко дыша. Обшлаг расстегнулся, голая сильная рука лежала на одеяле.
Лев Иваныч стоял и смотрел на него. Скуластый, а как похож! Женщина в оленьей куртке, тонкая, с веселыми круглыми глазами, вспомнилась ему… Сколько же ей было лет тогда? Она была еще девочка, никто и не верил, что врач.
Грустный и сердитый, надув губы, он стоял у постели. Тогда, после ее смерти, казалось, что еще ничего не кончилось, когда-нибудь будет другая любовь, не такая трудная, тайная. А вот — не вышло!
— Ну что ж, — пробормотал он и вернулся к себе. Стало прохладно, он закрыл форточку и начал одеваться. — Так что же нам делать с Неворожиным? А ничего, очень просто!..
«…Трубачевский прав, — думал он, снимая ночную рубашку и скатывая ее валиком, по-солдатски, — этот человек многое потерял. Он готовил себя к заметной роли. Если бы не революция… пожалуй, пошел бы далеко. Публицист, философ, стратег. Уж не в Бонапарты ли метил?..»
Он поставил чайник и вернулся к себе. Бумаги, принесенные Трубачевским, лежали на столе, какие-то заявления с подробным изложением дела, хронологическая канва, еще что-то…
«Пригодится. И вот еще что: не отвезти ли Трубачевского к прокурору?»
Глава девятая
Карташихин не мог припомнить, когда началось это чувство, что он куда-то едет, все в дороге и нужно спешить. Все стало этой дорогой, и он летел по ней так, что только версты мелькали. И такая чистота была вокруг, что минутами он как бы останавливался и прислушивался к себе: «Все ли так же хорошо, как и было?»
На этой дороге были станции, очень много, почти каждый день другая — то где-нибудь у Ботанического сада, то на круглых лестницах у самого льда, напротив Института мозга, то тихие, то шумные, то вечерние, то ночные. Но первая была на Фонтанке, и он запомнил ее на всю жизнь.
Они стояли на набережной, у парапета, там, где он образует угол, поднимаясь на мостик, против Инженерного замка. Свет падал с того берега, а здесь было темно, и когда она, закинув голову, оставалась так после поцелуя, ее лицо в этом далеком свете было темным и близким, глаза взволнованные.
Берет все падал, она сняла его и сунула в карман. Он знал, что одна прядь светлее, и обрадовался, что разглядел ее в такой темноте. Потом она сняла и перчатки — так было ближе.
Он взял ее за холодные, маленькие, милые руки и снова притянул к себе.
— Ваня… Нельзя же все время целоваться!
— Можно.
Кто-то прошел и, засмотревшись на них, споткнулся на больших ступенях. Так и нужно, не засматривайся.
Потом прошел еще кто-то, на этот раз быстро, — и они похвалили его за скромность. Потом стало холодно, и Карташихин заставил ее надеть берет. Она послушалась, но пришлось снять, потому что он снова начал падать.
Потом стало еще холоднее, у Машеньки замерзли руки; он долго оттирал и дышал на них, потом замерзли и у него, и он спрятал их под горжетку. Еще теплее было бы, если бы можно было расстегнуть верхнюю пуговицу ее пальто и сунуть руку туда, по он не решался. Потом решился, но она тихонько сказала: «Руку!» — и он покорно вытащил руку и держал ее на холоде до тех пор, пока она совсем не закоченела. Теперь не пустить ее туда было бы просто свинством. Она ничего не сказала, но пустила.
— А я-то думал…
— Что?
— Нет, ничего.
Она поняла, что он хотел сказать об отце, что все это нельзя было, потому что умер отец, и тихонько пожала руку, не ту, которой стало теперь совсем тепло, а другую, холодную. Он понял, что она догадалась.
— Я все думал, что можно только так… как тогда. (Тогда — это был день смерти Сергея Иваныча).
— И очень хорошо, И теперь так.
— Ну да!
На Фонтанке почему-то шел лед (в феврале), и огни в темных рисунках воды то закрывались, когда он медленно находил на них, то открывались. Часовой ходил туда и назад, далеко, в освещенном саду Инженерного замка. Пошел снег, и они долго смотрели, как, прямой и тяжелый, он летел мимо фонарей и сразу пропадал в темноте…