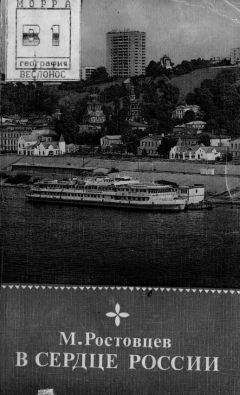Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
— Занятно. Ну и мастак ты, Чироня, байки ладить, — без тени издевки порадовался я.
— Зачем ладить? Идем-от на тую сопочку — острожок так и зовется. Жилища их покажу, могилы. Считай, из негских один я про то знаю, да еще эвенки, что тут кочуют. Зря трепаться не буду, а что есть — увидишь. Над могилами колодины целы, кресты.
— Сколько туда идти? — стараясь не показать своего нетерпения, спросил я, а сам готов был вскочить и бежать зайцем. Не верится: неужто удастся увидеть стоянку первых землепроходцев? Это уже настоящее везение.
— Сколь? — Чироня щурится, будто высчитывая и выглядывая в памяти весь длинный путь до острожка. — Сейчас на Умотку выйдем и по ней вверх, однако, далеко засветло придем. Глянем, скатимся вниз, в Таловеньком ночуем, а поутру к эвенкам.
— Годится.
Вышли к умотке-речке с крутыми угрюмыми берегами, вода в ней быстрая, вся в оспинах кружилых омутов. Чироня объясняет, что умотки, как и речушки, именуемые по-местному дигдали, берут начало в сырых мяндачах — сосновых борах, кружат, крутят, сигают из стороны в сторону, потому и умотки, умотают всякого разного. Но не Чироню. Чироня за хвост цепляться не будет, знает, где углышок срезать, где перебродить, а где и вообще от умотки в сторону податься. Он идет впереди — легкий, весь на шагу, поет чертовски чистым и красивым голосом, не поверишь, что тот же голос слышал я вчера в Неге:
— А ты, начальничек! Ключик, чайничек,
Отпусти до дома!
— А ты напейся воды холоднай,
Про любовь забудешь…
— А пил я воду. А пил холодну,
Да не помогаит.
Любил девку, да сибирячку,
Любил, да расстался.
И дальше со слезьми, с плачем, с лесною, неведомой городскому человеку тоской:
Гроб несут. Коня-ых ведут.
А конь — да ых головку клонит,
Ах молода, да молодая
Мóлода хоронит…
Потом Чироня поет что-то на эвенкийском языке.
Спрашиваю:
— Что поешь?
— Тебе, однако, без интересу.
— Скажи, интересно.
— Сам не знаю.
— Ну переведи, — не унимаюсь.
— Сказал — не знаю. Слышал, запомнил, вот и пою. А что — не знаю.
Приглядываюсь к нему и замечаю, что не только поет Чироня, но и приплясывает, вроде бы и поклоны вправо, влево легкими кивками кладет. Иду молча, слушая непонятные, то резкие до визга слова, то плавные, мягкие. Белкой цокочет Чироня, гусем кричит, трубит лосем… Молчу, не мешаю. Поднялись уже довольно, по времени должна быть где-то казацкая стоянка, бывший острожек атамана Михайлы Кашмылова. Может быть, камланит Чироня — молится, отгоняет злых духов и призывает добрых. Даже немного жутко сделалось. Чуть приспустил ремень пистолета-автомата с плеча.
— Тут амикан-дедушка ходит, — говорит Чироня. — Пугал я его. Зачем понапрасну встречаться-то?
Вот, оказывается, как просто все разрешается. Гляжу на мужика, нет, не верю, хитрит. Чему-то другому была посвящена его песня.
Тайга потемнела, стала гуще, угрюмей. Под ноги попадают выбеленные, в лист вымытые кости. Сумрачно как-то вокруг, и на сердце тревожно от песни ли Чирони, от тайны ли, что залегла вокруг плотно, осязаемо.
Продираемся через густющий молодой листвяк. Высокие деревья напрочно заслонили небо, упрятали в хвое солнце. Глянешь вверх — темень, и только малюсенькая скважинка в небо. Под ногами мягкая сухая пена ягеля. Тишина настороженная, ломкая. Кажется, что вот сейчас разом рухнет она и забредит, загудит, застонет вокруг тайга. Окружит опасностью, неминучей гибелью. И кто-то один, всеобъемлющий и всевбирающий, следит отовсюду, ждет удобного мгновения, чтобы выказать себя.
Это время, заплутавшее, завязшее тут меж стволов и ветвей, покрытых бестелесным бледным мхом, лежит вокруг застывшими наслоившимися друг на друга дремучими вехами. И, как назло, остановились часы (забыл завести утром), стрелки замерли.
Остановилось время.
И только сердце в груди считает свое: тук-тук, тук-тук… Вдруг разом в черновине тайги, белым по глазам. Неожиданно так, внезапно — словно окрик. Мелькнуло и замерло, Чироня остановился.
— Вот они…
Перед нами, — выбеленный дождями да снегопадами тесовый навес, на черных, дубленных годами стропилках. Оградка, словно бы прихваченная огнем, обуглилась, оглаженная ветрами столетий. За оградкой рубленые смоленые колодины собраны в глухой оклад. Над окладом старой веры крест, тоже темный, копченый. Рядом еще оклад, но без навеса, крест обветшал, заметно, подменены крестовины. Надгробный оклад — голубец отрухлел, пророс мелким кустиком, тощей травою. Под ним бурундучок устроил себе лабаз. След проторил отчетливый, набитый. А вот и сам появился. Забежал за валежину, затрусил хвостиком. Беспокоится, не обобрали бы его. За двумя могилами в чащобке еще кресты. Как и у первых двух, вокруг окладов высечена мелкорослая тайга, чисто у могилок.
Постояли на погосте, сняв шапки.
Кто покоится тут? Чьи косточки источила холодная сибирская земля, чей прах истлел? Кто знает о том, кто ответит?.. От болезни ли, от голода, от лихой ли стрелы слегли под кедровый рубленый голубец русские люди. Непокорные, отчаянные, шли они в неведомые края, секли тропы, резали веслом бегучие шальные воды рек, орали землю, ставили в дремучих урманах острожки и зимовья.
О, эта вечная жажда русского человека к неизведанному, дальнему, жажда к беспокойной, полной опасностями и нелегкими дорогами жизни! Вечный поиск от пращуров наших — росичей до нынешних непосед — поиск чего-то нового, лучшего. Куда ты все спешишь, торопишься, неугомонный русский человек, к каким далям, к весям каким?!
Молчит, насупившись, черная тайга. Молчат старые кресты от подножья до титла, рубленые кедровые голубцы молчат, время молчит.
— Пойдем к жилищам, — предлагает Чироня и добавляет: — Эвенки, да вот и я, ишо доглядываем могилки-то. Так вот исстари повелось. Что ни говори, а могит то быть, что их кровь по нашим жилочкам бегит.
Снова продираемся в густой пустошá тайги, и вдруг заросли крапивы, малинника, кислицы. Пышно клубится зелень. Такая знакомая, домовитая, совсем как за погребами в родной деревне. Удивительны эти кустарники и травы, что вырастают на порушенных или сожженных людских гнездах. Пройдут долгие времена, загладят, затянут лесом или кустарником дороги, улицы, проулки бывших людских поселений, сотрут с лица земли пашни и огороды, но долго еще будет буйно и чисто расти на месте бывших жилищ домовитая крапива, пестрец да малинник.
Мы идем от одной бывшей избы к другой. Заросло все вокруг чистым сосновым лесом. Каждая сосна в обхват. Но все еще видны на земле ямы погребов, уклады. А вот и нижний венец сохранился, лежит он, проросший кустарником и молодым подгоном, в пыль истлевший, ровным четырехугольником. Внутри его вымахали в полтора обхвата сосны, а он все еще обозначает прежнюю рубленную в крест избу. А вокруг, куда ни глянь, такие же истлевшие, но задубевшие у корня высокие пни. Валил тут русский человек громадные деревья, сек их топором с одной стороны, с другой огнем спаливал. Пни до сих пор хранят могучий посек топора. Всласть рубили казаки дерево, с кряком, со всего плеча, всей недюжинной силой. Вот они, эти могутные казачьи засеки. Сохранило их время, не порушило ни гнилью, ни огнем, ни тленом.
— Ну, веришь теперича в байку мою? — спросил Чироня, когда свалились мы по крутому склону в набережную тайгу.
— Верю.
— Это место добрым у эвенков считается.
— А что, есть недобрые?
— А то как же! По тайге их сколь угодно. Возьми, к примеру, следующий мег, — и предупредил: — Только я тебя туда не поведу.
Пообедав у кочомы — многоводной таежной речки, мы с первой вечерней сутемью вышли к станку Таловенькое.
— Однако, паря, ночуем тут, а завтра до солнышка по кочоме двинем. Почогиры на ней стоят…
Бегалтан
Вдоль широкой кулиги прошли берегом. Тайга тут далеко отступила от реки, вцепилась изогнутыми, скрюченными корнями в скалистый ярок, нависла над раздольем трав зеленым плотным козырьком. Деревья ветвями поддерживают друг друга, только бы не сорваться вниз. Весною кочома буйно заливает кулигу, подбирается к яру, точит скалы, оттого настороженно так, с опаской шумят над кулигой лиственки и сосны.
По песчаной косе ивняковые ослопицы кое-где занялись зеленью, на них развешан невод, рядом белеют чистыми доньями три лодки-берестянки. Легкие эти суденышки, сработанные из корья, дошли до нашего времени, не изменившись, минуя столетье за столетьем. Ни дать ни взять первобытная пирога с острым, загнутым кверху носом, вязанная гибким тальником. Умно, ловко сработана берестянка. Выдержала испытания веками. Ничего к ней ни добавить, ни отнять. Совершенство навигационной науки для здешних мелководных речек и озер. Охотник легонько кидает ее на плечо и идет многие километры, минуя реку за рекой, озеро за озером. Ходить на берестянках с анавупом — шестом — большое искусство. Познают его с детства. Встречаясь с эвенками, мне не раз приходилось удивляться многим их орудиям и вещам, так искусно приспособленным к жизни в тайге, пришедшим в двадцатый век из былинной дали. И всегда в каждой такой обиходной вещи удивляла гармония форм, завершенность, практичная, не броская, но истинная красота. Как можно понятнее объясняю эту мысль Чироне.