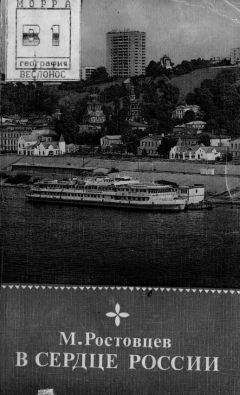Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
— Ну так чо?! Это, паря, от тайги, от природы. Она агикана[2] направляет. Вот, к примеру, олениха, та же коровенка. А молоко ее пил — кумни называется — масло маслом. Почему? А потому, что иначе нельзя — вымешко у нее с кулачок. Мал золотник, да дорог. А почему мал, да потому что несподручно ей с большим выменем-то по таежной глуши мотаться. Уразумел?
Идем медленно, по пояс в мокрой траве. Ведет нас едва заметная охотничья тропочка-путик. Лютует комар, мокрец занавесил солнце. Липнет к рукам, пробивается сквозь кисею защитных сеток, ползет в сапоги, жжет ноги. Чем выше поднимаемся путиком, тем легче становится дышать, с реки набежал ветерок, отогнал комара, мокреца тоже поуменьшилось.
Миновали скалистый приплечек, снова спустились к реке, на каменистую галечную отмель. Кочома тут переваливается через порожек, кипит белой продувной пеной, гудит, скатывает ослизлые, стального отлива валуны, оглаживает берег и, наигравшись ретивó, успокаивается широким плесо. По камням, не страшась стрежневых потоков, фонтанов брызг, скачут на порожке плисточки[3]. Поскачут, порезвятся в реке и выбегают на отмель. Довольные, радостные. Стрекочут, знобко трусят гузками. Как метко это в языке — трясти гузкой — трясогузка. А плисточка? Вероятно, теперь и не узнать, почему ее так назвали люди. Легонькая, веселая, сысподу в белом пере, спинка пепельная, по горлу черный воротничок и черный же беретик на затылке.
Загляделся, стою у воды, Чироня по отмели далеко ушел, снова поднимается вверх по яру…
Нербоколо — высокое лобное место над рекой, рядом густой, черный бор. Пропал комар, исчез мокрец. Солнце припекло, выжарило травы, отогрело землю. Легкие не вмещают воздуха, с ягодников прянуло горячим духом малины, вздобрели, поползли по стволам янтарной сукровицей смолы, поздним цветом, крепок его запах, омыло, словно бы кто нарочно распушил вокруг тонкие, в пепел тертые пряности.
Три чума на нербоколо, одно чумище — связанные в ласточкин хвост голые жерди. Собаки привязаны в лесном подгоне (охотники в тайге держат летом собак на привязи; треплет собака еще не вставшую на крыло птицу, портит ондатру), пошумели недолго и улеглись повизгивая.
Во всех трех чумах ни души. Вокруг вещи разложены, домашняя утварь, обиходь. Над кострищем на таганке болтается до иезги прочерненный чайник. Вода в нем еще теплая. Чироня сбрасывает с ног бахилы, развешивает на солнце портянки. И босиком шлепает с чайником к родинку, что звенит где-то за крайним чумом в белых мшалых камнях. Потом, присев на корточки, раздувает костер, потягивается сладко:
— Охотники за сохатым пошли. Не добудут — амаку срежут. Женщины с оленя′ми. Ребята ягоду берут.
Все это он говорит твердо, будто прочел оставленную хозяевами подробную записку.
Из года в год бродя по тайге, я привык к этим вполне определенным объяснениям предполагаемого. И никогда оно не расходилось с действительностью. Таежники — люди необыкновенной, какой-то острооголенной наблюдательности. То, что кажется для человека стороннего просто стойбищем, для них — раскрытая книга, в которой подробно рассказано, что происходило тут день, два, неделю назад, в самых мелких подробностях. Не утерял этой способности и Чироня.
— Долго ли ждать хозяев? — спрашиваю я.
— Ребятишки, однако, часа через два прибегут, а потом старик придет — хозяин, Петра Владимирович.
— Он что, не ушел за сохатым?
— Нет. Уже не ходит. Тут где-то близко топчется. Цвет лекарственный сбират.
Береговой сва′лок зарос буйным мелким розовым цветом медвежьего ушка. Чироня, потягиваясь у костра, говорит:
— Яро медвежье ушко цветет — осень теплая будет.
— Чироня, скажи, почему ты решил, что ушли охотники за лосем?
— Э, сляпой, что ли? Мясо на стойбище кончилось. Дня как три не варили его. Пищу готовят в маленьком казанке — мало народу в стойбище, тозовок нет, медвежатников-собак ни единой нет, одни качеканки[4], оленьих сумок — потакуев, в чем мясо возят, тоже нет… Ишо чего надо сказать?
— Нет, понятно.
— Об остальном, паря, сам додумаешь. Гляди, в тайге без взгляду нельзя. Стряпаться будем или хозяев подождем?
— Подождем.
— Ну, — соглашается Чироня.
Напившись чаю — выдули целый чайник, мы залегли с Чироней в теньке. Забылись глубоким, после дороги, сном. В тайге спится здорово, вероятно, хмелит бражный сосновый воздух.
Солнце медленно обошло чум, сторожко подкралось к нам, помалу, неслышно изгоняя тень, и брызнуло в лицо, жарко, прилипчиво. Мы разом проснулись, пот заметал лицо, шею, волглые рубахи пристыли к лопаткам. Душно. Во рту сухо, будто и не пили чаю.
— Пойдем скупнемся, — предлагает Чироня.
— Пойдем.
Вода в реке прохладная, дно плоское, твердое, — слежавшийся крупный рудовый песок. И река рудовая — будто расплавленная медь. Чироня полощется подле берега. Вода не задерживается на его желтом мосластом теле, скатывается как с утки. Под левым соском красный в детскую ладошку паук раскинул змейкие хищные щупальца-лапки, впился в кожу, ушел хоботком глубоко в тело, обсасывает Чиронино сердце.
— Чироня, что это?
— Затесь от фашиста. Под Москвою влепили. Во, глянь — навылет, — он поворачивается ко мне спиной: в ладонь ниже лопатки узкой засекой зарубцевавшаяся рана. — Сюда вот вошла, — он загибает руку, тыча черным, заскорузлым большим пальцем в рубец. — Под титьку вышла. Фарт. В пяти миллиметрах от сердца прошила.
— Ты воевал?
— А то как же. «За отвагу» имею. А эта вот, — он щелкнул себя по красной отметине на груди, — еще одна. Другу обещались дать, что выжил, с победы двадцать лет. Да, верно, запамятовали. Один баял, что ищет меня орден. Дескать, медали всем, кого ранили, тогда давали. А орден особо — за подвих.
— А у тебя подвиг был?
— Какой там подвих! Я скрадом, до атаки в их штаб проник, ну и выпластал, может, семь, а может, и десять ихних офицеров. Есэсавский батальон супротив нас стоял.
Я в медсанбате уже ходилки отбрасывал, когда наши их поломали. Торкнулись к штабу, а в ем весь комсостав, как баранья, перерезаны. Наш комрот кричит: «Ребята, кто этот подвих совершил?» Это мне все тот же баял, можа, и врал. Командиру мои взводный: «Это не иначе как боец Кашмылов, посланный мной на задание». — «Где он? Орден ему!» — «Он навроде как убитый уже», — это наши бойцы отвечают. «Убитый?!» — кричит командир. «Почтим память героя — посмертный орден ему!» Вот как оно было, а я так думаю — брехал паря. Мы с ним вместе в госпитале лежали, мне баба нашего негского масла топленого с медом прислала. Надо быть, подмасливался.
Чироня выходит на берег и, не вытираясь, не сгоняя ладонями воду с тела, лезет в штопаные груботканые кальсоны. (Вредная баба Матрена Андронитовна — даже исподники упрятала от мужика!)
— Слушай, почему у тебя тела такая гладкая? — спрашивает Чироня.
— От белого хлеба, — шучу я.
— От хрукты да сладкого вина. У меня от этого твоего портхвея (так он упорно называет коньяк) другой день в брюхе щекотанье происходит.
— Вот вернутся охотники — выпьем, — обещаю я.
— Верна! — одобряет Чироня и крякает.
На стойбище радостно зашумели собаки.
— Ребятишки пришли, — говорит Чироня.
Ребят пятеро — два мальчика и три девочки. Одна, совсем маленькая (годика два), сидит у костра, играет угольками. Другие сгрудились в стайку, стоят рядышком, смотрят безотрывно на нас.
Чироня что-то быстро говорит по-эвенкийски, мне не разобрать, берет на руки меньшую, начинает гукать. Девочка смеется. Старшие мигом разбегаются по стойбищу. Кто, прихватив обеденный казан — по воду, кто тянет из тайги сушняк для костра, средняя девочка возится в чуме, старшая пошла к реке.
Я залюбовался ею. Девчоночья неуклюжесть и угловатость только-только покинули тело, уступив место необычайно яркой красоте просыпающейся в ней женщины. Все в ней первозданно, будто только сию минуту на наших глазах неведомый резец ваятеля-природы коснулся, убрав из фигуры все лишнее, подчеркнув все новое, свежее, вдохновенно-красивое. Вот так разом ошарашит «Волна» Эрзи или коненковская Ника, заставит задохнуться на миг от встречи с прекрасным, и только потом докучливо разберешься в неповторимых переливах красоты человеческого тела, а пока только восторг, только радость — чистая, высокая.
— Как ее звать? — спросил я Чироню.
— Асаткан.
— Подожди, но ведь по-эвенкийски «асаткан» — девочка.
— Да. У эвенков так. Родился ребенок. Отец вышел из чума, что первое услышал или увидел — тем и назвал. Ее отец вышел, а навстречу бежит девочка. Он ее первой увидел. Вот и назвал Асаткан. — Чироня снова подхватил ползающую у его ног малышку. — Бадялаки — отец лягушку первую увидел. А он — Тураки, когда родился, ворона крикнула. А этот — Холбан — отец увидел над чумом красный Марс. Ну а осредыша звать Агды — гроза была, когда родилась. У них и русские имена есть, но в тайге теми кличут, какими нарекли при рождении. Такой закон.