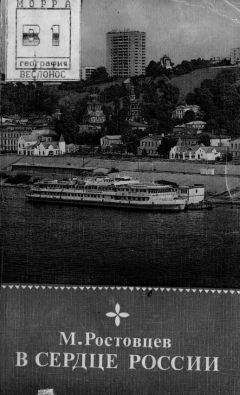Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
— Цыц, не мешай, старая! А в магазинах, а в магазинах что деется. Все, что тебе надо. А мне много не надо. Я в свой сельповский магазин прихожу, к примеру. Вот тут, дома. Дай мне сапоги — нету. Ружьишко новехонько продай — нету. Мне зиму зимовать в тайге, дай мне то, другое, третье. Не для форсу — для дела — нету. А что есть? Спирт? Есть. Водка? Есть. Консерва, котору уже жестенку ржа порушила? Есть. Да что, паря, говорить, плывешь по Авлакану, в любой сельпо заходи. Нету! Ничего для охотника нету. С охотника только взять. Охотнику только: дай да дай. А «на» — этого давно нету. Нескладно говорю, паря, а ты сам до сути докопаешься. У нас в тайге закон есть. Пришел к тебе ночью в непогодь враг твой, ты сперва чаем его напой, а потом уж счеты своди. Во как у нас, по-человечьи, по-доброму. Я, паря, разумею, что в области нашей платина, какой во всем мире нет, комбинаты там, заводы, шахты. Все это на виду, на всем этом забота, за все это почет. Области нашей и орден дали тоже за это. А скажи мне, кто я? Человек! А почему я, человек, в наше-то время должон на коленях стоять, чтоб, чего доброго, среди красивых всех да стройных мою плешь, мою просолонь не увидели? Почему мы-то, люди промысловые, охочие до дела, в пасынках по се время у земли своей советской ходим? Почему? Скажи мне? Это разве правильно, что государству невыгодно меня в культуре да чистоте держать? Конечно, платинов там всяких не делаю. Так я же работаю, во как работаю! — Лука Спиридоныч проводит ладонью по голове. От волнения глубокий рваный шрам набух кровью, вызмеился меж седых редких волос старика. — Я умного человека у себя хочу на Авлакан-реке видеть. А не то что суда засылают. На тебе, боже, что нам негоже. Всех, кто там, на земле-то большой, не у дел окажется, — к нам. Дескать, им любое дерьмо сойдет. Проглотят. Ну и то ладно. Хорошо, что мужик головастый к нам пришел — Иван Иванович. Ты с ним потолкуй, он тебе то же, что и я, скажет. Так-то, паря…
— Хватит, отец, что разбубнился-то, чисто котелок над огнем. Садитесь-ко к столу.
А ты мне, Анна Ивановна, пирогом своим рот не затыкай, — рассердился Лука Спиридоныч и тут же остыл. — Поговорим ишо. Просим, гостенек, к столу. Выпьем-ко по царке — как у нас говорят. Завтра со старухой в тайгу наладимся, шишку глядеть да зимовейку подправим, соболя, белку доглядим, где кормится. Будя, поговорили.
Я вернулся в дом Неги. Ее не было, перед заходом солнца стадо угнали на пастбище, она ушла с ним. Безлунная черная ночь опустилась на деревню. Я прошел в дом, откинув цепку, до сих пор еще в авлаканских деревнях не замыкают дверей. Прошел в горенку, не вздувая огня, лег на жесткий диван и закурил. Тишина обволокла все вокруг, густо-осязаемо залегла по углам избы, выплеснулась за окна. Я лежал, высвечивая мрак огоньком самокрутки, и, когда он, чуть потрескивая от глубокой задышки, распалялся, видел, как на стене проступают белые квадраты грамот и свидетельств моей хозяйки. Я слушал тоненько звенящую тишину и думал, думал обо всем, что увидел, услышал и пережил за этот долгий день.
Сначала заповедную тишину ночи нарушил далекий явственный звук, будто старое дерево, готовое рухнуть, вдруг заскрипело нескончаемым больным скрипом. Вот так во время землетрясений каким-то невероятным плачем кричат деревья, сотрясаемые от самого махровомелкого корешка до последнего листочка. Я не сразу понял, что снова завел свою песню Чироня.
Потом, совсем рядом, по доскам кое-где сохранившегося тротуара, срываясь, замирая и снова срываясь, прогромыхали шаги, жалобно заскулила, убегая прочь, собака, вероятно, поддетая этим шагом. В соседнем доме глухо, как в днище бочки, ударила дверь, где-то недолго, но высоко покричала женщина, и опять тишина… Только песня Чирони сверлышком вкручивается в уши, свербит в сердце. И хочется отмахнуться от нее, как от тягуче-липкой комариной нуды. Я встал и ушел в залу. Постелил себе на полу, на мягких чистых ковриках перину, кинул в голова подушки и, раздевшись, лег с твердым намерением спать и только спать. Но и сюда доносилась Чиронина песня. Он пел так, что слышно было его по всей деревне и даже дальше за Авлакан-рекой, в рудовых соснах, черных ельниках, серебряных кедрачах. На ягодниках, всполошенный нудным, нездешним звуком, поднял лохматую голову амикан-дедушка, скосил маленькие, подслеповатые глаза, в которые дробно забили сыпучие северные звезды, рыкнул в глухоту ночи; лось, прикорнувший в густом мочежиннике, сорвался с места и умчал на быстрых ногах к чистому лесу; замер соболь, хищно вытянув злую мордочку, готовый к прыжку на спящего косача; косач торкнулся, путаясь в темных ветвях, и ушел тяжелыми взмахами в ночь.
И нет больше вокруг тишины, взволновалась она, словно бы в волны Авлакан-реки канула. Неспокойно деревне, тайге, неспокойно сердцу. Я не услышал, как вошла в избу Нега. Проскользнула в маленькую спаленку тоненькой тенью. Завздыхала тяжело. Так вот всегда вздыхают перед сном натрудившиеся вдосталь за долгий день люди. И только затихла, заснула Нега, как снова весь дом от нижнего венца до матицы, до стрехи наполнился сухим скрипом.
Что за напасть? Что за наваждение такое? Я сел в постели, силясь сбросить с себя оцепенение тревожной дремы. В избе скрипел, заливался, строчил, словно пером по бумаге, северный «соловей» — сверчок.
Сон оставил меня. Я лег на спину, широко открыл глаза и стал слушать сверчка.
«Это он меня выживает», — подумалось так.
Я лежал и думал: «Где ты, деревня Нега? В каком пространстве и времени? Как легко и спокойно было бы у меня на душе, если бы я придумал тебя, Нега…»
Запись VI Песня ЧирониВ ту ночь заснул я поздно. Сон сморил с первым криком старого петуха. Он даже не прокричал, а прохрипел что-то свое, старческое, до сроку и захлебнулся шипящим кокотом. Ему ответил только один петушонок — по молодости вылез в неурочное время. Сон был тревожен, но все-таки глубок, и я, проснувшись рано, почувствовал, что успел отдохнуть.
Нега еще до свету ушла в тайгу, на столе чуть теплилась привернутая лампа. Эти ставшие буквально в два десятилетия музейной редкостью у нас в среднерусье «молнии» страшно разят горячим недогоревшим керосином, когда их погасишь. Поэтому Нега и привернула лампу, чтобы не причинять мне беспокойства.
На столе стояла глиняная махотка с топленым молоком, полкаравая хлеба, прикрытого полотенцем, конфеты-ландрин в вазочке, очищенный и разваленный на две тепло-розовые дольки малосольный сижок и перья лука, все в прозрачных каплях воды, с чуть-чуть желтоватыми головками, соль стояла в берестяном туеске.
Позавтракав, я вышел на волю. Деревня, луга, тайга, Авлакан-река — все утонуло в белой пуховой глыби тумана. Там, где поднялось солнце, едва просачивался палевый родничок света, растекаясь в неровную, с рваными краями лужицу. Ближние избы едва виделись в белой мгле бесформенными черновúнами.
Накинув цепку на дверной пробой, я сбежал с крыльца и пошел вверх по яру в контору промхоза. Оттуда едва различимо доносился говор. Пока я поднимался по сыпучей, кое-где оправленной в деревянные ступеньки тропинке, солнце с неукротимой жаждой пило туман. Он проворно стаивал, опадая все ниже и ниже, ложась ниц на утренние чистые листы подорожника, на гусиную травку, редел, скатывался к Авлакан-реке и клубился там густо, невпроворот. Вот вынырнул я по горло из влажной белой крутоверти, солнце хлестнуло по лицу звонко-радостно, по плечи, по пояс, и побрел к тесовому крыльцу промхоза. На крыльце курили мужики, человек шесть, молча, сосредоточенно. Утренний воздух, настоянный на свежести тумана, забродил крепким махорочным дымом. Женщины, их было гораздо больше, чем мужчин, незло переругивались друг с другом. Кто-то из мужиков встрял в их перебранку.
— Молчи, леший, — ругнула его жена. — Твое дело телячье, обмарался и стой! — И замахнулась на мужа косьем.
На крыльце недружно засмеялись.
Мужик в сердцах плюнул, подошел к бочке, зачерпнул корцом и стал пить громко, всем лицом припадая к воде.
Вышел из дома Иннокентий Кирьяныч — прокашлялся, дал назначение на работу, без единого лишнего слова. И все, так же без лишних слов, поднялись и ушли в туман, поблескивая тусклыми лезвиями кос, негромко переговариваясь.
Иннокентий Кирьяныч кинул вдогонку:
— Иннокентий, Боярин, запиши всех, кто с тобой вышел.
— Сделаю, — откликнулся из тумана Иннокентий.
Мы поздоровались за руку. Заведующий отделением, задумчиво глядя куда-то мимо меня, пожевал губами и глухо обронил:
— Вот так. Как завезли в сельпо водку, так и пошло. Добился, что телеграмму из района прислали о запрещении торговли спиртным.
— Иннокентий Кирьяныч, далеко от вас Таловенькое?
— Таловенькое? Рекою километров восемьдесят. Мегом, однако, двенадцать.