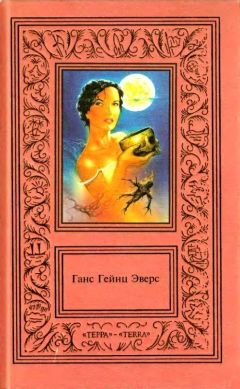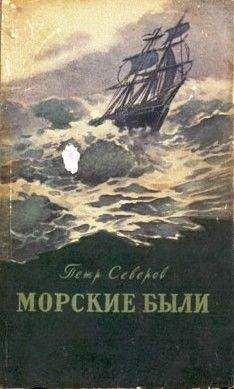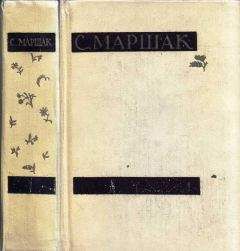Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
Все оборвалось одной фразой Филиппыча, и дальнейшие события того дня мне помнились смутно. Мы заходили в продовольственный магазин, и Филиппыч купил длинную вязку сушек, сахару и чаю. В закоулке рабфака, где помещалась вешалка, он передал покупку Павлу Семеновичу, белому плюшевому старичку, сказав, что вечером заглянет к нему с приятелем побаловаться чайком. Потом почему-то мы очень долго стояли у большого стенда и смотрели на список, отпечатанный на машинке, и это стояние мне напоминало безнадежно скучную процедуру похорон. Рядом кто-то смеялся, а кто-то другой сдавленно всхлипывал, а третий встряхнул меня за плечи и выговорил с нескрываемой злостью: «Не вешай носа, шахтер, свет в этот день не кончается, будет август и в следующем году, и я этим голубчикам ученым дам бой! Тонну романов, повестей, пьес перечитаю, но моя возьмет!» Это был актер; он, как и предсказывал Филиппыч, «провалился» по литературе, но и теперь не изменил излюбленным манерам: эффектно повернулся и, вскинув голову, замер в презрительно-величественной позе. Я подумал, что Филиппыч все же сделал доброе дело: привил этому парню интерес к литературе.
Навестив рабфак, мы, «согласно плану», направились в баню, купили мочалки и мыло и, сбросив свои тяжелые от цементной пыли пожитки в соседние рундуки, минуту-две беседовали с длинным прыщеватым парнем, который почему-то заинтересовался, кто мы, откуда, где работаем, и даже спросил, по каким дням у нас бывает получка. Глаза парня были покрыты масляной пленкой, и, когда он смеялся, криво растягивая губы, прыщи на дряблых щеках, приплясывая, сбегались. Лицо становилось очень смешным, но масляные глаза не смеялись: они словно бы высматривали какую-то цель, терпеливо, опасливо и напряженно.
Я от души похвалил Филиппыча за «банную идею»: душ хотя и не врачевал нашего душевного недуга, но приносил физическое облегчение, и мы наслаждались им не менее двух часов. А потом нас встряхнуло, ударило, подкосило огромное несчастье: и у меня, и у Филиппыча исчезли из карманов деньги. Весь наш трудный недельный заработок, — все до последнего рубля, до последнего гривенника. Вор, по-видимому, нисколько не торопился: со знанием дела обшарил нашу одежду, даже местами вспорол подкладку в пиджаках, взял и мой карманный нож, и носовой платок. Уже явно издеваясь, оставил вывернутыми карманы.
Уронив на пол пиджак, Филиппыч долго сидел неподвижно, и губы его, обожженные известью, беззвучно шевелились.
— Ты знаешь, о чем я думаю? — спросил он, заглядывая в зеркало на стене, где его разрумяненное лицо простого деревенского парня почему-то выглядело удивленным. — Нет, не о погоне за прыщеватым вором я думаю и не о кровавой мести, хотя, пожалуй, смог бы проявить свирепость. Вот уже добрый час мне настойчиво вспоминается выступление чудесного артиста Собинова, которого месяц назад я слушал в концерте, он проникновенно исполнял арию Ленского. — Филиппыч тихонько засмеялся. — Ну, не сумасшедший? То есть не Собинов, конечно, а твой покорный слуга! Очевидно, друг, в мозгу имеются таинственные «громоотводы», которые отвлекают мысль от сознания беды, и потому нам легче переносить всяческие горести и несчастья.
Я сказал Филиппычу, что у меня нет иного выбора, как согласиться с ним, хотя здравым рассуждениям я и предпочел бы хороший обед.
И еще я ему заметил, что мы оба — дремучие идеалисты и вульгарные простаки, так как полагаем, будто мир населен лишь нашими светлыми надеждами; в нем, к сожалению, существуют и малярийные комары, и муха цеце, и скорпионы, и змеи, и воры.
Филиппыч горячо поддержал меня, и, немного ободренные согласием, мы зашагали по улице, не особенно интересуясь, куда она приведет.
Улица привела нас на Страстной бульвар, откуда было рукой подать до Мясницкой, а в притихшем здании рабфака, в своей каморке за вешалкой, Павел Семенович, как оказалось, уже давненько поджидал нас у старенького, веселого, окутанного душистой теплынью самовара.
— Человеческое счастье многообразно и неистребимо, — по-свойски присаживаясь к столу, изрек Филиппыч. — Какие-то три часа назад я равнодушно смотрел на эти сушки, а сейчас мне думается, что вкуснее, пожалуй, ничего и нет.
Степенный старичок, Павел Семенович, любил неторопливый, вдумчивый разговор с философским акцентом, и Филиппычу это, по-видимому, было известно. Размеренно прихлебывая из блюдечек янтарный чай, они завели беседу о науке, и, прислушиваясь, я поражался тихому старичку: он лично и коротко был знаком с виднейшими учеными Москвы — профессорами, академиками, запросто называя некоторых по именам — Володя, Коля, Миша… Он прослужил в гардеробной МГУ почти полвека и помнил их еще студентами: не случайно минувшей осенью сам Анатолий Васильевич Луначарский, прибывший на рабфак с лекцией, издали узнал Семеныча, завернул к нему, поклонился и пожал руку.
И снова меня удивил мой Филиппыч: нет, он пригласил меня сюда не только попить чайку, — мы пришли за советом. Но когда он успел приметить этого славного дедушку, обвыкнуться в его каморке, найти тон, затронуть интересы, подобрать «ключи»? Впрочем, дедушка был не так уже и простоват: он легко разгадывал Филиппыча и, быть может, от скуки тешился с ним, как с котенком. Резко меняя тему, он вдруг прямо спросил:
— Значит, голубчики, срезались? Что ж, не вы первые, не вы и последние. Наука — она мать строгая и любит, чтобы человек все свои заботы ей отдавал, а вы где-то на вокзале хлопочете, и, значит, не полный у вас к науке интерес.
Филиппыч почему-то промолчал, но я не стерпел, возразил славному старичку, нарушив этикет чаепития в его каморке, и он резко, надменно взглянул на меня через плечо.
Тогда я стал рассказывать ему, как в последние, воскресный вечер нам вдруг представилась редкая возможность побывать на спектакле в Большом театре, а мы, одолев этот жгучий соблазн, приняли наряд на выгрузку десяти вагонов извести, и как до утра мотались у пакгауза с обожженными руками, губами, веками, помня, все время помня, что в понедельник нам предстоят решающие экзамены.
— Науку исповедуют и чтят не только за партой, в библиотеках, в лабораториях или у классной доски, — сказал я Павлу Семенычу, — но и там, на разгрузочной площадке, не усыпанной известью тропе.
Движением участливым и осторожным он взял мой стакан и добавил мне чая. В ясном и тихом взгляде его белесых глаз отчетливо отразилась печаль. Незаметно увлекшись, я рассказал и о второй беде, что подкараулила нас, усталых и разбитых, в бане: странно, что лишь теперь я остро переживал нашу потерю.
Дедушка слушал, казалось, безучастно; блюдечко в его руке вздрагивало, и у глаза мелко подергивалась морщинка; отставив блюдечко и протянув руку, он схватил, скомкал полотенце и зарылся в него лицом. Я не сразу понял, что почтенный Павел Семеныч заплакал, а когда понял — испугался, встал, извинился и хотел было выйти из каморки, но меня остановил Филиппыч. Он сказал:
— Вы на часах у науки, Павел Семеныч, половину века. И таких людей, как мы, видели немало. Нам ваше слово дорого: как вы скажете, так и поступим.
Старик долго сидел нахохлившись, поглаживая узловатыми пальцами чайную ложечку, маленький, белый, тихий: он напряженно думал, и морщинка у его глаза дергалась еще сильнее. Наконец что-то решил, выдвинул ящик стола, отыскал закатившийся карандаш, разгладил на ладони клочок бумаги, положил его перед Филиппычем.
— Записывай адрес… Вы можете встретить этого человека утром, когда он приезжает на службу. И одно условие: честность. Ни лукавинки, ни принижения, никакой даже малой фальшивинки: оставаться такими, как вы есть. О чем и как вы будете говорить? Но какие тут могут быть шпаргалки?
И дедушка назвал имя, отчество, фамилию… Филиппыч засуетился и замер у стола, глаза его широко раскрылись, он не заметил, что уронил карандаш.
Воскресный день оказался для нас удачным: на Товарную-Рогожскую мы завернули скорее от нечего делать, чем в расчете на подработок. Но знакомый артельный старшина сам предложил нам заменить двух прогульщиков в его смене; он тут же выдал нам по рублю аванса, и, подкрепившись у торговок под виадуком, мы до вечера выгружали пыльный, курной уголь, А вечером прибыл срочный груз — чугунные трубы; это значило, что нам повезло, мы остались работать и вторую смену.
С трубами было покончено лишь в полночь, но денег в этот поздний час у старшины больше не оказалось, он сказал, что рассчитается с нами после обеда. В таких случаях не требовалось расписок: здесь, в среде грузчиков железной дороги, скромных и отпетых, знающих цену копейке и бесшабашных гуляк, постоянно действовала добрая, давняя традиция рабочей порядочности.
Чугунные трубы, — о, нам досталось от их веса, блакового покрытия, самого вызывающего вида, мол, попробуй, подними меня! Грузчики знают чугунную усталость, такую, тяжелую, что чудится, будто все мышцы схвачены невидимыми жгутами, которые то сжимаются, то ослабевают, и безотчетно хочется упасть, где стоишь, броситься в сон, как в омут.