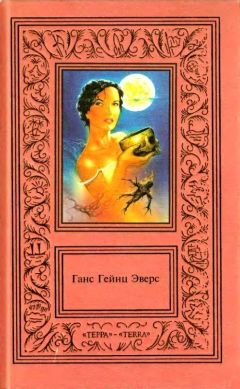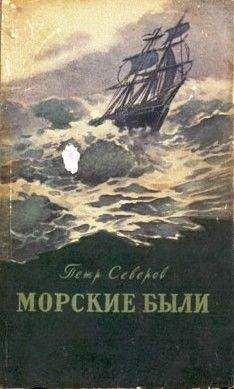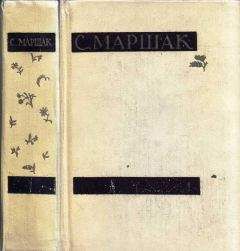Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
С трубами было покончено лишь в полночь, но денег в этот поздний час у старшины больше не оказалось, он сказал, что рассчитается с нами после обеда. В таких случаях не требовалось расписок: здесь, в среде грузчиков железной дороги, скромных и отпетых, знающих цену копейке и бесшабашных гуляк, постоянно действовала добрая, давняя традиция рабочей порядочности.
Чугунные трубы, — о, нам досталось от их веса, блакового покрытия, самого вызывающего вида, мол, попробуй, подними меня! Грузчики знают чугунную усталость, такую, тяжелую, что чудится, будто все мышцы схвачены невидимыми жгутами, которые то сжимаются, то ослабевают, и безотчетно хочется упасть, где стоишь, броситься в сон, как в омут.
Еще хорошо, что у нас не было нужды добираться ночными трамваями до гостиницы: мы собирались устроиться в гостинице, но не успели.
А потом обвыклись и в упрощенных условиях: в тупике грузовой станции обычно стояли пустые товарные вагоны, место не красное для ночлега, а все же спокойное. Поддерживая друг друга, мы подошли к вагону и последним усилием отодвинули дверь.
Филиппыч растолкал меня еще на зорьке.
— Ты что же это разлегся на полу, как барин, и нежишься, лежебока, в начале последнего, решающего дня? — Он взглянул на меня, блеснув белками глаз, весь будто высеченный из груды угля, взглянул и громко засмеялся: — Ну, демон!.. Нет, трубочист! Впрочем, и это не точно: уважаемый приятель мой Сковородка! Если бы, скажем, театральному гримеру было приказано превратить тебя в чернокожего, вряд ли он сумел бы так безукоризненно обработать твою поверхность, как ты это сделал сам. Но из этого следует, что нам остро необходимы не одеколон и не пудра, а пресная вода, причем в неограниченном количестве, благо, что тот презренный, встреченный нами в бане, мыла не утащил. Айда под паровозный кран!
Я заметил Филиппычу, что он слишком взволнован. Однако и сам я волновался не меньше, испугавшись мысли, что мы могли проспать намеченную встречу.
Ровно в восемь утра мы прибыли по указанному адресу — Чистые Пруды, двенадцать. Но у входа в этот внушительный дом дежурил рослый бородатый дядька.
Сохраняя независимый вид, мы проследовали мимо него, затем постояли на углу и стали неторопливо возвращаться. Так, возвращаясь в третий и четвертый раз, мы постепенно сокращали длину маршрута, а бородач все поглядывал на нас и не выдержал, заговорил первый:
— Хотелось бы мне знать, милейшие, с интересом вы тут маршируете или зря каблуки сбиваете?
Мы остановились, глядя на него, но не отвечая; этот момент был особо ответственным: ну-ка, скажешь не то слово, а он тут полный хозяин — прогонит и не подпустит к дому.
Бородач терпеливо ждал, тоже внимательно разглядывая нас, и спросил с усмешкой:
— Это что же, мода нынче пошла; уши черным намазаны, а глаза подведены?
— С честных трудов не смеются, — обиженно сказал Филиппыч. — Мы уголь выгружаем на станции, это пыльно и грязно, да надо жить.
— Вот оно какое дело, — удивился и словно бы обрадовался бородач, — угольщики! Верно, брат: жить надо, — и совсем по-доброму улыбнулся. — А сюда, в Наркомат, вы, может, с просьбой какой, так не стесняйтесь.
Филиппыч уже безбоязненно приблизился к нему:
— Нам, батя, главную начальницу повидать бы. Дела-то, может, на одну минуту, а в этой минуте две человеческих судьбы… Просьба у нас к тебе простая: не отсылай к помощникам, нам только к ней.
— Прямо сказать, — раздумывая, заметил швейцар, — утомительное с вами занятие: то правонарушители с повинной, то беглые из колонии с жалобой, то потерпевшие от воды и от огня, а то и просто бродяги. Угольщиков, правда, не бывало, а я и сам из угольщиков. — Он вытянул жилистые руки. — Вот сколько шрамов запеклось! В общем, вижу: вам нужно помочь, ребята. Что ж, время еще имеется, и давайте начнем с простого: по коридору последняя дверь направо — умывальник… — Он наклонился к тумбочке и подал Филиппычу полотенце. — Займитесь своими шеями да ушами. Без этого, сами понимаете, нельзя.
В светлой просторной комнате, обложенной белым кафелем, мы драили друг друга уцелевшей у нас мочалкой с ожесточением, а когда возвратились к нашему покровителю, он одобрительно кивнул и улыбнулся.
— Ну, вот и перемена: явились будто из-под моста, а теперь никто не скажет, что урки, нет, чистые мальчики!
Он свел нас по лестнице к скамье, что стояла в закоулке меж тамбуром входной двери и простенком, заметив, что с часок мы можем спокойно отдохнуть.
— Усталость, братцы, мылом не отмывается, — сказал сочувственно. — Вы тут располагайтесь, а я на посту и кликну вас в нужную минуту.
Я сел и задумался о жизни: она была переменчива, как весенняя степь с высоты, вся в темных облачных и в ярких световых пятнах.
Легонько я толкнул Филиппыча:
— Люди говорят, что счастье — это встретить доброго человека. Мы встретили его!
Филиппыч не отозвался. Он спал. Чугунные трубы! Не просто они дались нам минувшей ночью!
Час — это очень много, по крайней мере, достаточно, чтобы перенестись на огромные расстояние и даже переместиться во времени. Я очутился в течение того часа очень далеко, в мире своего детства. День был весенний, солнечный после дождя, и я шел зеленым берегом Донца, глядя, как рядом, под обрывом, на омуте, рождалась радуга. Она возникала из речной глубины круглой и мощной световой колонной, и стоило поднять руку, чтобы дотронуться до ее слоистого вещества: мне было боязно и радостно смотреть на это знакомое чудо и поддаваться искушению — прикоснуться к нему. Я протянул руку…
Кто-то несильно встряхнул меня за плечо. Я тотчас вскочил со скамьи, жмурясь от близкой радуги. Рядом со мной стоял, порывисто дыша, Филиппыч. Бородач уже удалялся от нас на свое вахтерское место. Кто же произнес слова: «Мальчики, она приехала»? Да, конечно, он, добрый человек, швейцар!.. Я глянул в окно. За полосой тротуара стояла довольно неуклюжая, серого цвета легковая машина, и стройный, подтянутый человек в костюме спортивного покроя, по-видимому, шофер, открывал перед пассажиркой высоко расположенную дверцу.
— Айда!.. — прошептал Филиппыч, и мы выбежали на улицу в ту минуту, когда женщина ступила на тротуар.
Мне запомнилась та минута со всеми ее подробностями: косой луч солнца дробился на смотровом стекле машины; мотор еще равномерно гудел; шофер, улыбаясь, придерживал дверцу, не торопясь ее захлопывать… Женщина взглянула на ручные часы, что-то негромко сказала ему и ступила на тротуар. Одета она была скромно, словно бы по-домашнему: серый в полосочку костюм обычного, как на многих, материала; просторный жакет с пояском, с накладными карманами; мягкий, высокий воротник блузки наглухо смыкался вокруг шеи. В руке она держала сумочку старинного фасона, действительно старенькую, потертую по краям.
Мы выросли перед нею так внезапно, что она отступила на шаг. Наверное, приняла нас за случайных прохожих и какие-то секунды помедлила, уступая нам дорогу, но Филиппыч воскликнул громко и весело:
— Все-таки мы вас дождались!.. Здравствуйте… Вот хорошо!
Она посмотрела на Филиппыча, потом на меня. Взгляд серых глаз был задумчив; нет, она нисколько не удивилась нашему неожиданному появлению.
— Здравствуйте… Не знала, что меня ждут на улице.
Как же это случилось, что бойкий Филиппыч вдруг растерялся? Он растерялся потому, что забыл снять кепку, спохватился и быстро исправил эту оплошность, но теперь не нашел, что сказать, и беспомощно глянул на меня, мол, помогай, поддерживай. Боясь безвозвратно утерять нашу долгожданную и сокровенную минуту, я сказал:
— Эти два молодых товарища, которые стоят перед вами, хотят учиться. Что поделаешь, ежели ни сна ни отдыха и все это как болезнь? Мы в данную текущую минуту на бровке тротуара с вами стоим, но, может, не камень у нас под ногами, а рубикон жизни, моей и друга моего… то есть, двух жизней!
Брови ее чуточку сдвинулись, но в линии губ уже таилась улыбка.
— Красно вы говорите. Откуда приехали?
— Кострома и Донбасс…
Она неторопливо поднялась на ступеньку, занятая своими мыслями, и снова взглянула на меня, потом на Филиппыча, который стоял, опустив нечесаную голову, худенький и тихий. Я приметил это мгновение — что-то неуловимо изменилось в ее лице и в задумчивом, несколько утомленном взгляде.
— Ладно, «Кострома и Донбасс», — мягко молвила она, — пройдемте, потолкуем.
Кабинет был просторен и светел; на белом подоконнике ласково цвел калачик; со стены строго смотрел Карл Маркс, с другой — сдержанно улыбался Ленин. Она указала нам движением руки на кресла перед столом, черные, с прямоугольными спинками, подошла к настенному зеркалу, поправила прическу.
Я подумал, что у нас, на Донбассе, в кабинете зава шахтой письменный стол был намного больше и богаче, а чернильные приборы и не сравнить. Правда, на этом столе оказалось больше свободного места; не было ни разбросанных бумаг, ни нагроможденных папок, ни пепельницы с окурками, — только две чернильницы на простой черной подставке, пресс-папье и раскрытый календарь.