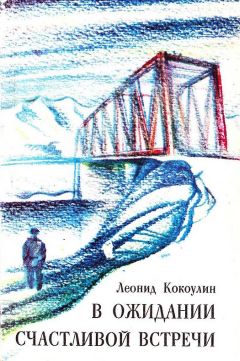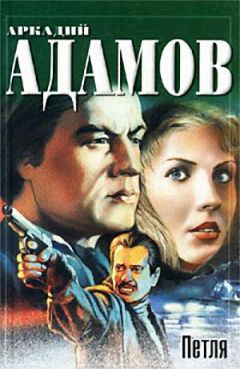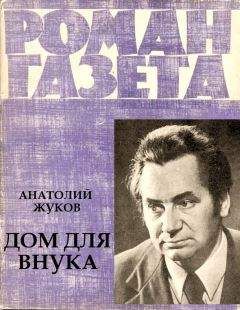Наталья Парыгина - Вдова
— Нюра, — окликнула Дарья, — ты не знаешь, где Митя?
Нюрка подняла голову от книжки.
— Нет. Опять, поди, где-нибудь с Хмелем.
— С каким Хмелем?
— Ну, с Федькой Хмелевым, который из заключения вернулся.
— Из заключения? И ты знаешь этого Хмеля?
— Видела. Его все знают.
— А почему мне не сказала?
Нюрка по-взрослому пожала плечами.
— Зачем?
— Погубит он Митьку, этот проклятый Хмель. В беду втянет.
— Митя все равно тебя не слушает, — заметила Нюрка.
— Не слушает? — выкрикнула Дарья. С ней это случалось — Нюрка знала: говорит-говорит нормальным голосом и вдруг начинает орать. — Не слушает? Вы оба не слушаете. А я вот заставлю, будете слушать, выбью дурь-то из вас, пускай он только явится, проклятый...
Нюрка молчала. Если попытаться уговорить мать, она еще хуже распалится. Лучше уж молчать. Только бы Митя сейчас не пришел. Достанется ему, если сейчас придет.
Но Митя домой не спешил. Поужинали с Нюркой — его все не было.
Дарья работала в третью смену, в полночь — выходить. Надо хоть немного поспать. Она набросила на кровать поверх одеяла старый халат, не раздеваясь, легла, накрылась Нюркиным пальтишком.
Приснилось ей лето. Оказалась Дарья в лесу. Шла по густой траве меж высоких старых деревьев. Вдруг над самой головой громко зловеще каркнул ворон — огромный, словно орел. И опять: «Карр! Карр!» Дарья побежала. Но уже не было травы под ногами, густой кустарник, сплетаясь ветвями, преграждал ей путь. Дарья продиралась через этот кустарник, ветви цеплялись за ее платье, боярышник своими колючками царапал лицо, а ноги словно кто опутывал веревками. «Это же хмель. Хмель!» — с ужасом думала
Дарья. И какие-то крики долетали издали. Ворон? Нет, не ворон. Чей это голос? Господи, да это же Митин голос! «Мама! Ма-ма!» Она раздирает руками ветки кустарника, с неимоверным усилием высвобождает одну ногу, делает шаг, а другая, словно змеиными жгутами, опутана хмелем. В отчаянии Дарья пытается крикнуть, но из горла вырываются только беспомощные хрипы.
Резкий звонок будильника прервал Дарьип мучительный сон. Дарья вскинула голову. Пришел ли Митя? При свете луны она увидала на спинке стула Митины брюки.
Нюрка лежала на диване, до подбородка укрытая одеялом — она и во сне оставалась аккуратной. Скользнув по ней беглым взглядом, Дарья долго глядела на сына.
Митя на своей узкой койке вовсе сдвинулся на край, лежал на животе, руками обхватил подушку, будто оберегая от кого-то. Одеяло одним углом прикрывало ноги, а до пояса — вовсе голый. Худой, узкоплечий был Митя. Давно не испытанное чувство жалости и нежности к сыну охватило Дарью. «И что я на него все злоблюсь, — с досадой на себя подумала она. — Вовсе без ласки растет. Может, в том я перед детьми и виновата, что без ласки растут...» На подушке, возле Митиной головы, свернувшись клубочком, спал серый котенок. Митя сам принес его, брошенного кем-то, с улицы и назвал Стенькой. Дарья осторожно погладила котенка.
Спохватившись, она заспешила на работу. Воздух после дождя был прохладен и чист, тучи рассеялись, яркий серп месяца стоял в вышине. Дарья осторожно ступала по грязной скользкой дороге, и странное, давно не испытанное спокойствие владело ею.
Дарья сама не могла понять, отчего ей сделалось так хорошо. Оттого ли, что страшное, недавно пережитое, оказалось сном. Или оставила в душе светлый след та тихая минута, когда стояла возле Митиной кровати, глядя на его худое, смуглое тело — без зла, без раздражения, с теплым материнским чувством, как-то притупившимся после гибели Василия. Или еще отчего.
Может, оттого, что зародилась в Дарье новая жизнь, опять сделав ее молодой, опять сделав ее женщиной. Новое существо, тайно от всех, набирало силы, и тело Дарьи бессознательно отзывалось на это событие тихой, чуть расслабляющей удовлетворенностью.
Митя пришел из школы первым. Схватил ломоть хлеба, посыпал солью, откусил.
— Ты для кого это водку покупал? — в упор глядя на сына, спросила Дарья.
Митя перестал жевать, лицо его вытянулось, глаза испуганно метнулись в сторону. Он что-то попытался сказать, но получилось невнятно из-за непрожеванного хлеба, Дарья вырвала хлеб у него и рук, швырнула на стол.
— Ну, для кого?
— Ни для кого я не покупал...
— Не ври! — крикнула Дарья. — Люди видели. Покупал. Позоришь меня. Только дурное про тебя от людей слышу. От людей слышу, а сам таишься. Чего ты от меня скрываешь? Мать ведь я тебе. Всю жизнь я честно прожила, для вас стараюсь, о себе не думаю. И никаких тайностей у меня нету, а ты...
Злые огоньки вспыхнули в Митиных глазах, весь он как-то напружинился, словно стал худее и выше ростом, и двинулся ей навстречу.
— Никаких тайностей? — крикнул Митя прямо в лицо матери, так, что она почувствовала теплоту его дыхания. — Честно прожила? А Чесноков у тебя ночевал — это честно? Нас в лагерь отправила, а сама с ним спала! Думаешь, не знаю? Я все про тебя знаю. Все! Все! И Нюрка знает...
— Сволочь! — крикнула Дарья, ощутив острый приступ бешенства.
Она размахнулась и изо всей силы ударила Митю по щеке.
Митя схватился за щеку, отступил назад, угрожающе проговорил:
— Ну, погоди...
И вдруг новый, незнакомый, взрослый и жестокий человек проглянул в нем.
Дарья не посмела тронуть этого человека. Смутная угроза отрезвила ее, гнев пропал, она почувствовала себя жалкой, униженной и беспомощной. Они стояли друг против друга, два или три шага разделяли их, но малое это расстояние было непреодолимо. Ощущение тяжкой безысходности наполняло Дарью, комната казалась ей клеткой, накрепко запертой со всех сторон, и скверное враждебное чувство к сыну все отчетливее вызревало в ней.
Это было горе, тяжкое, как смерть Василия. И все другое перед ним бледнело — и то, что Митя отбился от рук, и то, что он знал про ее связь с Чесноковым. Все было скреплено одной цепочкой, но неприязнь к сыну, ставшему чужим, более всего мучила Дарью и в то же время приносила ей какое-то странное облегчение, как бы освобождая ее от ответственности за Митины поступки и за его судьбу.
Митя давно уже не считался с матерью, но все-таки какая-то видимость ее материнской власти прежде существовала. А после этой короткой отчаянной ссоры Митя словно бы получил признанное матерью право на самостоятельность.
— Отстань.
Стороной, от соседей и знакомых, слышала Дарья, что Митя связался с дурной компанией, что играют они в карты неизвестно на какие деньги, что есть с ними девушки, которые едва ли не хуже парней.
После таких разговоров Дарья маялась беспокойством, порывалась что-то делать, видела, что погибает сын, и пыталась его спасти. Спрятав свою неприязнь, принуждала себя быть ласковой, подыскивала добрые слова:
— Митя, что же это... Люди про тебя нехорошее говорят. Куда идешь? Под гору ведь катишься...
— Не твое дело, — с дерзкой, кривой усмешкой перебивал он. — Раньше надо было заботиться.
— Да разве ж я...
— Перестань, а то уйду.
Дарья умолкала, чувствуя свое бессилие. Не могла она пробиться к нему в душу. Накрепко запер Митя ее на замок и ключи выкинул неведомо куда.
5
В субботу Дарья принялась за стирку. Наклонилась за бельем, и вдруг голова закружилась, Дарья качнулась, будто стояла в лодке и лодку подкинуло на волне. «Чего это со мной? — с недоумением подумала она. — Сроду такого не бывало...»
Но тут же вспомнила: бывало. Когда ходила беременная. Митю носила — один раз даже упала. Мыла пол, наклонилась и словно кто ударил под коленки.
Сперва Дарья спокойно припомнила тот давний случай, еще не осмыслив его прямой связи с сегодняшним состоянием. Она продолжала разбирать бельишко, откладывая в сторону белое, которое собиралась парить. За делом мысли тянутся лениво. Одна минует, а другая не торопится, даст голове отдохнуть. Дарья уже начала забывать о минутном головокружении, но тут опять наплыла та мутная волна, к горлу подступила тошнота. Дарья распрямилась, с трезвой неотвратимостью подумала: «Так ведь и нынче от того же...»
Она оглядела себя, словно ожидала увидеть какие-то перемены. Ничего не было заметно. Но Дарья теперь припомнила то, на что прежде не обратила внимания. И удивилась только, что не разгадала своей тайны до сих пор.
Дарья тут же, в кухне, где раскладывала белье, села на табурет, беспомощно опустив на колени руки. «Что же теперь делать-то?» — подумала она. И заметались мысли, словно мыши в мышеловке. В больницу пойти — без толку: закон запретил аборты. Говорят, Ксения Опенкина занимается этим. Как бы в могилу не свела. Останутся ребятишки сиротами. Родить? Срамно родить без мужика.
Когда Дарья, забеременев в первый раз, сказала об этом Василию, он обнял ее и целовал в буйной радости, а на другой день с получки купил ей на базаре яркий кашемировый платок. Теперь нет Василия. И платок Дарья обменяла в поезде на молоко. А другого никто уж не подарит. Якову Петровичу сказать? А кто он ей, Яков Петрович? Пришел, потешился да к жене воротился. А ей — беда. Сама виновата. На свою глупость жалобы не подашь. Без мужика стосковалась? Вот теперь и расплачивайся.