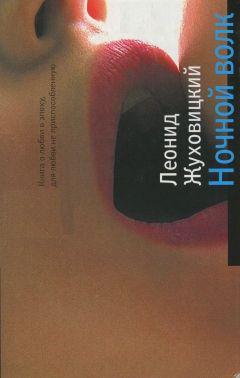Леонид Жуховицкий - Остановиться, оглянуться…
Но я не мог и не стал думать, потому что у меня все равно не было выбора между «нет» и «да». Ни выбора, ни даже уклончивой формулы «может быть».
Я был весь в долгах. Всем должен — Юрке, Рите, Ире, Сашке, его боссу — курчавому, стремительно мыслящему профессору, выздоровевшей Нине и тем, кто уже не успеет выздороветь. Был должен Женьке, и всем кто мне верил, и Федотычу, который печатает фельетон, и Таньке Мухиной тоже был должен. Долги облепили меня, как гипсовые повязки, я был увешан ими, как носильщик непомерными чемоданами, и тащил их, едва отрывая ноги от земли.
О новых долгах я даже думать не мог…
— Давай поговорим об этом в другой раз, — серьезно сказал я. — Мне сперва надо самому разобраться в своих делах.
Она спросила:
— А когда в другой раз?
— Дня через четыре.
Фельетон должен был идти послезавтра. Правда, газета есть газета, могут и отложить на несколько номеров. Но тогда я ей скажу, чтобы позвонила еще через неделю…
Чуть шевеля губами, она отсчитала про себя четыре дня и сказала, что позвонит в понедельник.
— Давай, — кивнул я.
Я легонько сжал ей плечо, так же легонько оттолкнул, и она пошла вниз по лестнице. Все–таки она была цельная девчонка — даже в таких случаях не оглядывалась…
Федотыч был человек точный. В пятницу, в три часа Танька Мухина принесла уже готовую полосу.
Я развернул ее на столе, и Танька сказала с хвастливой скромностью:
— А ничего сверстана, правда?
Я тоже похвалил верстку, похвалил шрифт заголовок. Фельетон был поставлен хорошо — все прочтут, никто не пропустит.
Надо было хотя бы из вежливости просмотреть его. Но я сразу же почувствовал, что не могу. Фельетон вызывал у меня чисто физическое отвращение, какое, наверное, вызывает у самоубийц револьвер.
— Не торопишься? — спросил я Таньку.
— Не! — Она засмеялась: — Я сказала, к соседке в роддом иду.
— Тогда посидим малость. Роды дело долгое.
Я взял полосу, чтобы идти к Женьке. Но тут мне показалось, что Танька хочет что–то сказать, я даже остановился у двери. Но она отвела глаза, щелкнула пальцем по колпачку настольной лампы и проговорила безразлично:
— Ну и модерняга тут у вас!
У Женьки были люди, и я вызвал его в коридор.
— Помнишь идею Федотыча насчет фельетона? — спросил я.
Он кивнул.
— Так вот он, этот фельетон.
Женька взял у меня полосу, глянул на заглавие, на подпись и вскинул брови:
— Мухина?
— Мухина, — подтвердил я.
Женька спросил, помедлив:
— Сама?
Я усмехнулся:
— Еле уговорил… В общем, прочитаешь — звякни.
Я вернулся к себе. Танька даже не спросила, где я оставил полосу.
— Ну, выкладывай, — сказал я. — Чего там еще?
Она покачала лохматой головой:
— Да нет, ничего особенного. Знаешь, я, между прочим, эту девочку встретила.
Я был так ошарашен, что даже переспросил:
— Какую девочку?
Она от неловкости огрызнулась:
— Твою невесту.
Я в упор уставился на нее.
Так. Значит, Танька Мухина. Не кто иной, как Танька Мухина, человек–кремень, умеющий надежно хранить и свои, и чужие тайны…
— Между прочим, встретила? Ну и что ты ей, между прочим, сказала?
— Мы с ней так подружились! — похвасталась Танька.
— Водой не разольешь?
Танька засмеялась:
— Не, правда, хорошая девочка.
— Это ты дала ей мой телефон?
— А что такого? — защищалась она. — Подумаешь — узнала бы в секретариате!
Я хотел выдать ей как следует по этому поводу. Но мне позвонил Женька, и я пошел к нему.
Женька на этот раз был один — редчайший случай! Он стоял над полосой, и голова его покачивалась не то одобрительно, не то озабоченно.
Я спросил:
— Как думаешь, этого хватит?
Он ответил, не поднимая головы:
— Думаю, что вполне… Здорово она стегнула Одинцова! Довольно плотно привязала к этой истории.
— Приятное у него будет утро, — усмехнулся я и тут попомнил, что у меня оно будет еще более приятное. Видно, и Женька подумал об этом же, потому что спросил:
— Редактор знает?
— Вот как раз хочу к нему зайти.
Он кивнул неопределенно, и я сказал:
— Ничего страшного, старик. Погуляю три месяца по святой Руси, а там все успокоится.
Женька подумал немного и развел руками:
— Да, пожалуй, ничего лучшего не придумаешь…
Наверное, он не совсем меня понял. Но мне не хотелось объяснять, да и как все это объяснишь?
Конечно, я мог бы и остаться, мог бы месяц и два переносить эту пакостную славу, злобные намеки, сочувственные звонки, остроумие приятелей, бурную любознательность соседей…
Это я мог бы.
Вот только зачем? Что добавит мой голос к колоколу, который громыхнет завтра на всю страну?..
Имелось и еще одно «но».
Человек, публично признающий свою ошибку, — это производит впечатление. Но человек, публично признающий свою ошибку на трех или четырех заседаниях подряд, — это становится будничным, даже смешным. В подобных случаях больше уважения вызывает обычная объяснительная записка — стойкий бумажный солдатик, который не умеет ни возражать, ни спорить, а только твердо стоять на своем…
— Ладно, — сказал я Женьке, — там видно будет.
Я зашел к редактору, дал ему полосу и попросил посмотреть прямо сейчас. Он не стал спрашивать, зачем и почему, а сразу же начал читать.
Он читал быстро, как всегда, как и должен, по–моему, читать настоящий редактор. Он брал самую суть и только ее, не придираясь к фразам, не оставляя на полях мелочных закорючек, как осторожные блюстители гладкописи, для которых даже пятерка, как и единица, всего лишь отклонение на два балла от безопасной оценки «три».
Он прочитал все до конца. Потом поднял глаза и спросил не сразу:
— Завтра, что ли, идет?
Где идет, он не спросил: газета Федотыча легко узнавалась по верстке. Я кивнул.
— Ну что ж, ты вроде этого и хотел, — проговори редактор, и я был чертовски благодарен ему — не за слова эти, а за то, что сперва он подумал обо мне, а не о себе, хотя этот фельетон и ему будет стоить крови.
Мы договорились быстро, потому что мыслил редактор, как всегда, трезво, а выбирать практически было не из чего.
— Черт, не вовремя, — проворчал он. — Хотя это все не вовремя…
Я тут же набросал заявление об отпуске и еще — о месяце за свой счет, и редактор подписал обе бумаги.
— Ну валяй, — сказал он, — проветрись. Будет что интересное — присылай, дадим под псевдонимом.
— Ладно, — кивнул я, — будет — пришлю.
Насчет псевдонима я не сказал ничего. Но эта деталь, о которой я прежде не думал, теперь поразила меня своей деловитой жесткостью. Я вдруг понял, что псевдоним — это не на месяц и не на полгода — это, пожалуй, на всю жизнь. По материалам газетчика запоминают редко, зато по скандалам — помнят.
И вряд ли рационально годами доказывать, что ты честный человек, когда есть достаточно более важных метин, тоже требующих доказательства.
Псевдоним… Не так уж трудно начать новую жизнь. Но вот отказаться от старой…
Я взял полосу и вернулся к себе. Танька Мухина сидела на столе, свесив ноги, и я в который раз удивился, откуда у такой тощей девчонки такие симпатичные конечности.
— Опять лазила в черновики! Это все равно что чужие письма читать, — сказал я, но довольно равнодушно: и комната эта, и стол, и даже черновики как бы пошли от меня и, хотя пока не принадлежали другому, мне тоже не принадлежали. Как пустой барак оставленного прииска…
— А я всегда читаю чужие письма, — заявила Танька. — От журналистов тайн нет.
— Ладно, — сказал я, — не существенно. Значит, очень подружились?
Она прижала руки к груди:
— Да нет, Гошка, честно — ну что я такого сделала? Ты что, не хотел, чтобы она тебе звонила?
Я чуть замялся с ответом, и хитрая Танька мгновенно перехватила инициативу:
— Разве плохо? Будет у тебя верная жена. А жаловаться на скучную жизнь станешь приходить ко мне.
Я промолчал — мне не хотелось вот так говорить о Светлане, не хотелось трепать ее кроткие близорукие глаза в мимоходном скоморошьем разговорчике.
Наверное, Танька почувствовала это. Она проговорила, отведя глаза:
— А правда, Неспанов, женись на ней. Вот честное слово, хорошая девочка. Знаешь, как она тебя любит! Я даже позавидовала.
— Мне, что ли?
— Как ни странно, ей. Что–что, а это девочка умеет.
Я кивнул невнимательно и неопределенно, лишь бы кончить разговор. Но Танька и не думала умолкать — она вдруг уставилась на меня тоскливо и зло:
— Вообще странная девочка. А, Неспанов? Откуда только такие берутся? Просто ненормальная — хочет выйти замуж за любимого человека и всю жизнь любить только его одного… Странная девочка, правда, Неспанов?
Я сказал:
— Ладно, старуха. Сейчас не самое время…
— А тебе всегда будет некогда, — возразила Танька. — Я ее, между прочим, предупредила. Свинство, конечно, но уж очень жаль девочку.