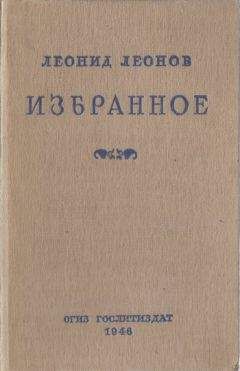Леонид Леонов - Соть
Его увезли, и ни вдова, ни друг, которых и не было, не вышли провожать в дорогу; в сущности, род погибнул гораздо раньше. Недолго помнили и об Виссарионе, – помнили, пока хоронили; даже и шрама не осталось на памяти людской. Никто, к слову, не догадывался, к о г о хоронят. Провожатых пришло немного, но это был сплоченный отряд, готовый к любому бою. Впереди всех, тотчас за приспущенным знаменем, шли гармонисты, трое, и, не умея играть грустных мелодий, старательно переиначивали на скорбь всем известную лихую песню. Скрипели колодезные журавли… и потом галки – целое небо летучей черноты! – бесстрастно поднимались с поля, пустого, точно вывернутого наизнанку.
Виссариона закопали, как чурку, на развалине шонохской дороги, чтоб все, кто уезжал или возвращался, видели и этот печальный столб с дощечкой, а на ней кратчайшую повесть о днях макарихинского завклуба. Осенние дожди посмыли непрочную надпись, а подновить ее все недоставало рук. По весне, когда окончательно истерлась память об этом неудавшемся предтече нового Аттилы блуждал тут хозяйственный мужичок с Нерчьмы и, чтоб не пропадать столбу задаром, начертил на дощечке черную стрелку химическим карандашом, а под ней – тридцать две корявых буквенки: «Отсель до Сотьстроя Километров шесть…»
Глава шестая
I
Нагоняло ветром воду в Соть, наплывали слухи на деревни. Первее всех набежал шепоток, будто замиренье все-таки не состоялось, потому что воспротивился тому сам Березятов. Приговаривали, будто и не убит вовсе, а прострелена лишь тень его; сам же просидел все советские годы в погребу у шонохского старовера и, гадая по подземным звукам, ждал лишь поры, когда ему вернуться к прежнему ремеслу. Кстати припомнилось темное пророчество одного колченогого бродяжки, который, шагая с Волыни на Печору, вздумал навестить и тишайшую Соть. «Отрождаетсе овес на девятые шутки, а рабенок на девятый месяц, – извещал бродяжка, почесывая вшивый затылок под своим собачьим малахаем, и все благоговейно находили, что похожи на диковинные стручки иссохшие его пальцы. – Воротитсе сынель шолдатская на девятый год, и тоды будет больсая кровь». Ясно было, про Березятова вещал, но то ли часы у героя в подвале остановились, то ли не выспалось его побитое воинство, запоздал Березятов со своим возвращением на Соть… В страхе верит мужик и древяному скрипу, и куриному пенью, и гугнивому вранью.
Чем больше укорачивался день, тем тревожней становились ночи. Кургузые облака застилали сотинское небо, и бродяжка, сунув вверх свой указательный стручок, объяснил однажды, что то и есть тени березятовского воинства, так как тени мертвых отражаются на небесах, – и опять верили. Тут бы и взыграть Виссариону, потому что не особо дальней родней приходился Березятов его Аттиле, но в том и была их совместная ошибка, что не прежнюю деревню заставал теперь Березятов. Покидая Соть, все оглядывался пророк на тень свою, тут ли она, но та бегла за ним пока верней собаки… Деревня расщепилась, и из расщепа, все шире раздвигая его, новая выбивала людская поросль. Да и тех, кто еще качался на древнем корени, постепенно прямою выгодой засасывала сотинская стройка. В числе других двухсот, нанятых с подводами развозить опалубку на Сотьстрое, был один такой Матвей Кискин, славный всего лишь тем, что болел холерой и выздоровел. Первого октября на рассвете вышел Матвей коня кормить, а сарайные ворота настежь, и как бы вопит сарай всем своим раскрытым зевом. Выскочил Матвей на улицу, – как рассказывали бабы потом, – рот раззет и глаза навыпуке, заорал лошадиным голосом, и тут встрелся ему неубитый Прокофий Милованов.
– Чего квохчешь не по времени, тетерев? – пошутил.
– Милый, не я – конь мой орет. Овса четыре мешка у меня покрали… на колесах приезжали, бандюги. Меня-то за что, рази я советский? – С огорчения запамятовал Матвей, что за языки-то и вылавливают березятовское племя.
– Бандит, где он живет? – молвил Милованов, грузно упираясь взглядом, точно локтем, в самое Матвеево переносье. – На коне живет, конь ему дом и родина. И надо ему этот дом топить, чтоб не погибнуть досрочно. Ну и терпи, от своего терпишь!
Так и случилось, как Пронька предполагал: на дыбы Матвей округ поднял. Как везли воры Матвеево добро, то сочилось из дырявого мешка по три зернышка: на шестой версте, когда заметно отощал мешок, спохватились воры и, обвязав копыта коня тряпицами, ехали дальше как придется, полем и болотом; путляла и обманывала осенняя колея. Этим следом и пошла облава: впереди собачкой бежал Матвей; стоило ему труда не залаять. На заре отыскали место: стлался низом костерный дым. Розовую тишину, одновременно не меньше восьми, долбили дятлы. Мужики ящерами поползли на животах, влача по хвое, как хвосты, свое домодельное оружие. Земля пахла махоркой и грибом. На постели из елового лапника спала вповалку березятовская вольница; жестяной чайничек своеобычно коптился над огнем, единственный страж спящих. Не сдержав в себе военной отваги, Матвей выскочил из засады и в свирепом восторге закричал «ура». Были свалка, выстрелы, брань и грузный топ погони…
…Из растоптанного костра отвалился уголек. Малая искрица стала точить себе норку, чтоб отыскать угреву от ледовитого ветра. В прелых волокнах гнилушки вздулась она, и тотчас сотня юрких красных паучат разбежалась от нее по сторонам. Некоторые гибли, но десятки вовремя начали свое огненное размноженье. Гнилушка лениво закурилась дымком, и вдруг, точно одевшись в красную рубаху, кусток сохлой можжухи трескуче и пламенно вскинулся вверх. Жгучие комары засновали между стволов, а по хвойнику все ползло, множась и раскаляясь, паучиное потомство. Ветер гнал его вперед, они шипели, выкидывая тонкие рыжие жала. Скоро за клекотом огня неслышна стала отдаленная пальба погони. На короткий миг, в подобье шемаханскому алому шелку, развернулся над лесом огненный лоскут… И опять возвеселиться бы Аттиле, имевшему прийти в пламени и разоренье, но была осень.
Сравнимые только с бабами на сносях, собирались над Сотью облака. Получасом позже хлынули осенние воды, и невозросшее пламя поникло. Последний, самый живучий из паучков долго суетился у корней, пока не убило его дождевой каплей. Всё новые наносило с моря глыбы воды, смывало с деревьев непрочную зелень; имелось на Балуни одно местечко лиственного леса. Соть линяла, цветная ржавчина пала на ее берега, и, когда Увадьев шел однажды утром мыться на реку, под ногами хрустели растреснутые льдинки зимы.
Тем еще отлично было это утро от прочих, что только теперь закончилась борьба за Сотьстрой, перекинувшаяся из высоких этажей в промышленную печать. Бумага спорила за первенство с металлом, кожей, энергией и обнаружила несомненное равенство сил. В сущности, это был спор стихий, и человеку оставалось лишь направлять течение единоборства. Соображение, что, вырабатывая бумагу, Сотьстрой работал тем самым на культуру, было самым слабым оружием в этой борьбе; одержали верх все те же испытанные потемкинские доводы о пролетаризации Соти. Резолюция говорила о необходимости вывести Сотьстрой в одну шеренгу с важнейшими строительствами республики. Самая сотинская неурядица расценивалась как следствие вынужденной остановки, и этому опыту справедливо придавались укрупненные масштабы. Комиссия полагала, что именно на этом крутом подъеме следует предельно развить скорость, чтоб беспрерывным скольжением растереть упадочные настроения, кое-где скопившиеся в стране. В сущности, комиссия воспользовалась теми выводами, которые давала ей сама действительность. Снова наступили рабочие будни; обшивали толем тепляки, рвали подмерзлую землю на месте будущей водонасосной; в губернских известиях еженедельно печатались сводки о ходе строительных работ. Соть уходила как бы в забвенье: сперва одели ее осенние туманы, потом удалило от мира осеннее бездорожье. Были ветры, точно выли вдовы. При полном бесснежии встала река. Двое суток длилась в природе чудесная и виноватая улыбка – это были разлука и обещанье; потом пронзительная снежная иголка сыпанула скоса по Сотьстрою. Белая голизна места слепила взгляд. С полудня иголка переменилась на хлопье; воздух стал как сырая тряпка, как тряпкой все и дышали. Сушило и саднило знойким ветром, и Бураго, размечая с Увадьевым место под лесную биржу, низко спустил меховые уши шапки.
– Лепит, Иван Абрамыч.
– Зимишка прет.
После того разговора, пять месяцев назад, им трудно давалось начало бесед; всегда при встречах наедине им бывало неловко, точно однажды видели друг друга голыми. Теперь, может быть, эта метель, отделившая их на час от жизни сыпучей невещественной стеной, и внушала им позыв на новую откровенность; в сущности, каждый говорил сам с собой, потому что говорил от одиночества своего. Их шествие сквозь метель по серому, расквашенному полю напоминало прогулку сумасшедших с какого-то виденного однажды рисунка.