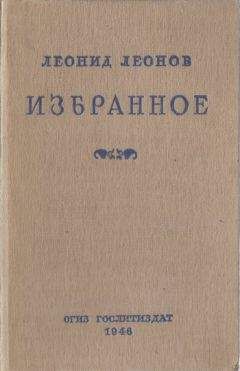Леонид Леонов - Соть
– …не разбудил вас?
– Нет, пожалуйста.
– Поздно ложитесь, это вредно.
– А вы что, в опекуны записались? Слушайте, я не из тех. Бывали случаи, в меня стреляли, и я стреляла сама. – Ему почудилось хвастовство этой неизвестной подробностью, но он не испытал раздраженья. Ему было так, будто курит толстую папиросу и приятное онемение приходит в пальцы. – Вас вызывали в комиссию?.. они спрашивали об отце?
– Да, я объяснил, что он устал. А когда устают в наши дни – умирают. – Папироса его кончилась, а ему все еще хотелось продлить ее сладостный чад. – Слушайте, я прочел вашего Печорина. Встреться он мне в девятнадцатом году, я расстрелял бы его, да. – Он помолчал. – Знаете, осень пришла!
Кто-то засмеялся, и вот кольнуло неуместное подозренье, что не одна она, а двое, трое… весь Сотьстрой слушает по ту сторону провода его неуклюжие признанья, усиленные через громкоговоритель.
– Не смешите, это Увадьев… – шепотом сказала она кому-то. – Простите, я не слышала.
– Я сказал, что осень, – вяло повторил Увадьев. – Дерево под окном, осина, вся в круглых листьях, как в медалях… латунь, медь, золото.
– Иван Абрамыч, – сказала она просто, – с чего вы впадаете в такую плачевную лирику? Вы все сидите один, вот вам и мерещится. Какая осень, просто циклон затянулся. Вы из дому? Ну, тогда приходите сейчас… у меня люди, и мы пьем чай. Придете?
– Ладно. У меня финики есть… – грубым голосом сказал он и ждал, потому что для этого, в сущности, слова и велся весь разговор.
– Отлично, будем с финиками!
Торопливо, точно боялся опоздать, он заворачивал в газету остатки липучих ягод, но когда одна упала на пол, он поднял ее и положил в общую кучу. Спрятав ключ в условленное с Жегловым место, он вышел на улицу и быстрым шагом двинулся по проулку, который вел к больничке. Именно оттого, что не было ему существенной разницы между тем, что он хотел и что уже сделано, он старался теперь помочь себе воображаемым разговором. Дело представлялось ему так: зима – бледный диск вокруг луны предвещает метель – бумажный зал возводится уже в тепляках – в такую ночь Сузанна прибегает к нему, накинув шубку прямо на рубашку, и остается навсегда: так происходит соединение двух концов вольтовой дуги. Они живут вместе, то есть в одной комнате, и будто утром он спешит на строительство, – там одна из колонн бумажного зала дала непредвиденную и скандальную осадку; он торопится выпить кофе и проглотить неминучую вчерашнюю котлету, волокнистую и безвкусную, как целлюлоза. «Ешь, пожалуйста, ножом и вилкой, если сумеешь!» – говорит она, и он ненавидит себя прежнего, который не остерегся решительного шага… Беседуя с фельдшерицей, он уже знал, что когда-нибудь соберется в больницу, к Геласию. Было несомненно также, что фиников не хватило бы на всю ораву техников и инженерской молодежи, которая обычно собиралась у Сузанны.
В палате было пусто; только один парень, ошпаренный накануне из паропровода, разделял с Геласием больничную ночь. С забинтованной до самого рта головой, он все еще рычал, этот здоровенный малый, уже не от боли, а от животного страха перед обнявшим его мраком. Исполняя больничный распорядок, Увадьев на цыпочках прошел к окну, где с раскинутыми ногами лежал Геласий. Тот еще не спал; слегка сощурясь на молочный фонарь, сквозь который сочилась пахучая больничная скука, он осторожно подвинулся в сторону, чтоб освободить гостю место на койке.
– Ну, брат, едва добрался до тебя! – бодро начал гость и немедленно стал выгружать на столик свои дары: – Это финики, замечательная штука… только вели, чтоб тебе их помыли. Что ж, скоро и на выписку! Ну как, все хорошо?
– Все хорошо, – с каким-то как бы накрахмаленным лицом сказал Геласий и кашлянул один раз.
– Я тебя кладовщиком зачислил на склад. Должность нешумная, но ответственная, брат! Души и сердца машин у тебя будут на сохраненье… и замечательных машин, понимаешь?
– Я все ждал, что ты раньше придешь, – сказал Геласий. – Хотелось поговорить обо всем.
– Ну вот и говори!
– Теперь не хочется, зарядка прошла. Там что, Филофей повесился?
– Да, брат, вертится колесо, и кто не умеет удержаться на нем, прочь летит. Все правильно, в мире всегда все правильно, но кое-что надо еще взорвать в нем! – Украдкой он прощупал взглядом своего приемыша, отыскивая в нем явных каких-нибудь перемен, но все как будто осталось по-прежнему; длинная рука – каждый палец, согнутый коршуньим клювом, еще недавно предназначался когтить сообщих с ним, Увадьевым, врагов, – раскинулась по простыне, но рыжие космы, стекавшие с подушки, уже не обжигали взгляда. – Как, не болит теперь?
– Не-ет, все прошло. Зарастает волосиками… – Он закрыл глаза, его утомлял разговор с Увадьевым.
– Вот и ладно. Выйдешь – поселишься пока у меня, и будем двое холостяков. Вот если только сместят меня да ушлют куда-нибудь на низовую работу.
– Ты не заботься обо мне, – с непостижимой одышкой перебил Геласий. – Я тебе не нужен, я и сам себе не нужен. – Лицо его сморщилось. Увадьев ждал худшего, но все обошлось благополучно. – Ступай и не ходи ко мне больше. Ступай, мне спать надо, я больной.
– Ну, как знаешь, тебе видней! – охотно согласился Увадьев. – Если деньжат понадобится, заходи без стеснения, я дам.
Ему было немножко стыдно того облегчения, с которым он покинул палату; вдобавок было такое чувство, будто где-то в укромном уголке его самого стоит Жеглов и наблюдает его жестокую, здоровую повадку. «Ну, как Геласиева пружина?» – «Она умерла, – говорит Увадьев. – В каждом производстве бывает брак». – «Слишком велик брак в твоем производстве, Увадьев!» – «Впервые, друг, впервые. Все еще неясно на этой фабрике новых людей. Станков толком расставить не умеем, правда твоя. А парня жалко…» – «Ты машина, – и голос Жеглова звенит. – Машина, приспособленная к самостоятельному существованию. Ты самую природу почитаешь низменной…» – «Цени во мне это!» – «Но ты же не живешь, а исполняешь функции. Ты любишь Сузанну, а бежишь ее, потому что признание обозначит твою сдачу!» – «Я не боюсь суда тех, для кого я сделал себя таким…» Воображаемого собеседника он видел как бы сквозь дым папиросы.
В доме было темно; он пошарил спичек на столе и рукой наткнулся на острый край консервной банки. По липкости пальцев он догадался о порезе и мысленно улыбнулся Жеглову. «Вот-вот, и боли нет…» Через минуту он вспомнил, что липкость происходила от фиников. Не отыскав спичек, он ложился спать на ощупь и вдруг опять поймал себя на сравнении – вот лежит в разобранном виде машина, делающая счастье для девочки Кати, страшное человеческое счастье. Потом стала мниться река из детства, на которой мальчишкой удил рыбу. На воде, леностно передразнивавшей гаснущие облака, качался сумасшедше пестрый поплавок; в теле возникло напряженное ожиданье. Вдруг поплавок нырнул вглубь, и все затрепетавшее существо Увадьева метнулось вслед, в зеленоватую тину сна.
Его разбудил грохот упавшей банки: вернувшийся с заседания Жеглов тоже искал спичек на столе.
– Спичек не ищи, нету, – приподнявшись на локте, сказал Увадьев. – Неделю, черти, обещают электричество провести…
Жеглов звучно зевнул:
– Большая драка была. Ну, ты остаешься… сам влип, сам и выпутывайся. Завтра сооруди нам дрезину, пора ехать.
В переломную эту ночь спали особенно крепко. Никто не видел снов, никто не просыпался среди ночи, хотя до самого рассвета мчались лаистые ветры над рекой. Это север облаивал осень, вступавшую в обладание Сотью.
VII
Дрезина отходила в три, а за час до полудня, в обход установившихся правил, часть комиссии во главе с Увадьевым отправилась в Макариху на летучий митинг. В частности, Гуляеву, новому заместителю Потемкина по губисполкому, хотелось посмотреть соотношение сил на Соти. Надоумило его то обстоятельство, что накануне, почти одновременно с акишинской тетрадкой, в комиссию было доставлено такое же заявление от сотинских мужиков: подписей набрали близ сотни. Незначительность советского ядра, заставлявшая предполагать равнодушие или враждебность остальной массы, не пугала Гуляева; каждый новый успех Сотьстроя должен был неминуемо вербовать ему все новых сторонников.
С утра рябились лужи, ленивые капли непогоды уже не испарялись. Митинг перенесли в клуб, и так как представлялось невыгодным сразу поднимать обсуждение спорных и насущных вопросов, Гуляев начал с обзора международного положения. Его слушали с зорким вниманием, точно все сообщаемые им на память цифры имели прямое отношение к мужицкому, на Соти, житию. Сидя во втором ряду с Мокроносовым, Увадьев вспоминал обстоятельства их первого знакомства и шепотком расспрашивал о всяких деревенских делах:
– …а этот Милованов, что с ним?.. обошлось?
– Живет. Все очень хорошо. Коня ковать поехал.
Гуляев говорил о хлебе, и беседа прервалась сама собою. Минут через десять, приметив улыбку Мокроносова на какую-то часть гуляевской речи. Увадьев спросил: