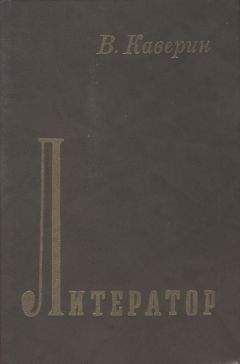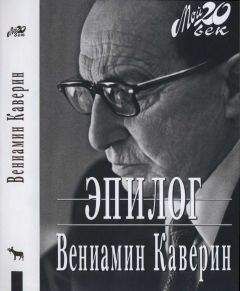Вениамин Каверин - Избранное
— Как же так, — пробормотал он. — Боже мой, как же так. Я написал книгу…
— Иди домой, папа.
Как будто прислушиваясь, старый Щепкин поднял голову, и стал виден большой висячий кадык на похудевшей шее.
— Что же я делал десять лет? — громко спросил он. — Я хотел доказать…
— Домой, папа! — строго, как маленькому, приказал Александр Николаевич.
— Постой… Я хотел доказать… Не помню. Как же так, — глотая слезы, сказал он. — Значит, все это незачем? Теперь конец? И он прав, он! А я все ошибки его сосчитал, и фактические. И не прочитает никто. И он не прочитает никогда, никогда…
И, уронив платок, он затрясся от рыданий, не стыдясь их и не вытирая слез, катившихся по небритым, ослабевшим щекам.
По рассказам Машеньки, Карташихин знал расположение комнат. Но он все равно нашел бы ее, если бы не знал или если бы в квартире Бауэра было вдесятеро больше комнат. Она лежала на кровати одетая, лицом к стене, обхватив голову одной рукой и согнув ноги. Лампа, не погашенная с ночи, стояла на ночном столике подле кровати. Одеяло сползло на пол. Карташихин поднял одеяло и тихонько накрыл Машеньку. Она обернулась.
— Ваня, у меня страшно болит голова, — сказала она, нисколько не удивляясь тому, что он здесь, как будто он только что вышел из комнаты и теперь вернулся. — Виски ломит. Я что-то приняла, и не помогает. — Она вдруг заплакала, бесшумно и горько.
— Машенька, родная моя, дорогая, не нужно, — не зная, что делать и как помочь, и чувствуя, что он умирает от нежности и любви, сказал Карташихин.
Она посмотрела на него и прижалась, обхватив за плечи. Он тоже обнял ее и стал целовать голову, мокрое лицо, руки.
5Все три страшных дня, когда Бауэр лежал мертвый — сперва у себя, потом в Академии наук, — Карташихин не отходил от Машеньки.
Вместе с нею он ходил по делам, тяжелым и странным, в загс, где под плакатами, изображавшими кормление ребенка, сидели пары, где Машеньке нужно было платить деньги и называть своего отца покойным. Он писал бумаги, давал объявления, заказывал цветы.
С легкостью, его самого удивлявшей, он переносил недоброжелательные взгляды Дмитрия Бауэра, язвительные намеки Неворожина, который явился в день смерти Сергея Иваныча и, неопределенно щурясь, с холодной рассеянностью бродил по квартире.
Вместе с Машенькой Карташихин провел целую ночь у тела и снова испытал то, что всегда испытывал, встречаясь со смертью — душевный холод и недоумение.
Он не забыл о Трубачевском. Забежав на минуту домой, он позвонил ему по телефону.
— Послушай, Бауэр все знал, — объявил он хладнокровно и, подождав, пока кончится град взволнованных вопросов, прибавил, не отвечая ни на один, — поэтому не вешайся, если можешь, еще дня три. Раньше я не смогу тебя увидеть.
Он не имел никакого понятия о том, знал ли Бауэр что-нибудь, или нет. Но тут нужно было врать — и он сделал это, не подозревая, что сказал Трубачевскому правду.
Гроб, покрытый цветами, был поставлен наклонно — как будто для того, чтобы покойнику было удобнее встать. Портрет Бауэра висел над ним. Серые молодые глаза насмешливо глядели из-под высокого лысого лба на торжественную церемонию прощания. Он прислушивался с недоверием. И как далеко, как не похоже было это сильное, умное лицо на то желтовато-спокойное, которое лишь с трудом можно было найти между цветами.
Машенька стояла у гроба, низко опустив голову. Лицо ее было неподвижно. Казалось, она ничего не видела и не слышала. Но она подняла глаза, когда известный политический деятель и ученый, приехавший хоронить Сергея Иваныча из Москвы, упомянул о ней в своей речи. Он сказал, что Сергей Иваныч оставил партии и правительству заботу о своей дочери, и пообещал следить за ее судьбой.
Карташихин смотрел на нее не отрываясь. Выпрямившись, стояла она у гроба. Она была гладко причесана, но легкие волосы не лежали, и светлые воздушные пряди заходили на виски до самых бровей.
Вокруг гроба было много народу: Неворожин, весь в черном, стоял в ногах, и Дмитрий, растерянный, с распухшими глазами (он пил без просыпу третью неделю), и Варвара Николаевна, розовая, в чудесном шелковом платье, и страшный, почерневший, раздутый Щепкин, и Александр Щепкин, и старуха, — но Карташихин видел только Машеньку. Это было очень странно, и он решил, что нужно сейчас же вернуть свою всегдашнюю холодность. Но холодность не возвращалась, и он, больше уже не стесняясь самого себя, стал смотреть на нее с нежностью и любовью. Все стало новым, чистым и легким. Ему было немного стыдно, что он так счастлив здесь, в этом зале, где лежит покойник, где уже два часа говорят о нем и то тут, то там раздаются и умолкают рыдания…
Перед похоронами он на минуту забежал домой. У него был свой ключ, и он наверное знал, что Матвея Ионыча нет дома. Но, пробегая мимо его комнаты в свою, он заметил свет и тут только вспомнил, что, открыв входную дверь, чуть не упал, споткнувшись о чемодан, неизвестно откуда взявшийся в прихожей. Тем же карьером он повернул назад и в раздумье остановился над чемоданом.
В это время кто-то, как в детстве, сзади дал ему тумака и закрыл глаза ладонями. Он угадал, прежде чем знакомый голос сказал первое слово.
— Лев Иваныч!
Лев Иваныч в натуральную величину стоял перед ним, в валенках, сгорбленный, усатый, со своим смешным носом и сердитыми бровями. Карташихин схватил его за руку и потащил к себе.
— Лев Иваныч, дорогой, — быстро сказал он, — я сейчас не могу с вами говорить, у меня три минуты, я только переодеться зашел, а потом сразу надо бежать, в одиннадцать вынос.
Он снял ботинки и носки, такие дырявые, что все пальцы торчали наружу, и, пробормотав: «Черт, натер», побежал в прихожую, где стоял бельевой шкаф, за новой парой.
— Какой вынос? — нахмурясь, спросил Лев Иваныч.
— Ах да, вы не знаете! Бауэр умер… Ах да, ведь вы и Бауэра не знаете! Словом, он умер, в одиннадцать вынос из Академии наук, и мне нужно быть непременно. Я условился.
— С кем?
— С Машенькой, вы не знаете.
Говоря это, он успел не только сменить носки, но и брюки и наконец, скинув юнгштурмовку, которую постоянно носил, надел рубаху с галстуком и пиджак. Ни этой рубахи, ни галстука Лев Иваныч прежде у него не видел. Улыбаясь в усы, он молча следил, как переодевался Карташихин.
— Ну да, Машеньку… не знаю… — наконец сказал он.
— Я вас познакомлю. А теперь вот что: Лев Иваныч, дорогой, вы помните Трубачевского?
— Еще бы.
— Так вот, нужно к нему пойти. Сегодня же или, еще лучше, сейчас. С ним… черт знает что, ужасная история. Он сам вам ее расскажет. Вообще я его уже три дня не видел, а когда видел в последний раз, он собирался повеситься.
— Что?
— Повеситься, повеситься! Вы зайдете к нему, Лев Иваныч! Я бы и сам зашел, да, видите…
Он был уже в пальто. Кепку он сперва нахлобучил, а потом спохватился и перед зеркалом надел набок, франтовато. Перед зеркалом Лев Иваныч видел его впервые.
— Лев Иваныч, вы чего смеетесь?
— Я не смеюсь, — возразил Лев Иваныч.
Карташихин растерянно смотрел на него.
— Что-то у тебя, брат, настроение не похоронное!
— Ах, настроение…
Он немного покраснел и вдруг шагнул, обнял Льва Иваныча.
— Вспомнил, что не поздоровался, — объяснил он и, взглянув на часы, опрометью бросился вон из квартиры.
6Лев Иваныч приехал в Ленинград на месяц. Это был его первый отпуск с 1917 года. На театр, который он по-детски любил, заранее были отданы все вечера. Каждое воскресенье, которое в Н-ске ничем не отличалось от любого другого дня, он вспоминал, что, прожив столько лет в Ленинграде, ни разу не зашел в Эрмитаж. А дворцы! Он был только в Гатчинском, в ноябре 1917 года, с отрядом красногвардейцев. Жаль, но он тогда был очень занят и не успел как следует посмотреть дворец. А ведь этот был не из лучших!..
Матвей Ионыч, заспанный и полуголый, похожий на циркового медведя в штанах, открыл ему.
— Ну, здравствуй! — сказал Лев Иваныч.
Минуты две спустя Матвей Ионыч догадался, что и ему нужно бы сказать «здравствуй». Он, впрочем, не потерял этого времени даром. Мигом отняв у Льва Иваныча чемодан, он бережно поставил его на пол, а когда Лев Иваныч взял чемодан, чтобы отнести его в комнату, опять отнял и, не сказав ни слова, опять поставил на пол.
Лев Иваныч засмеялся и обнял его.
Та же огромная трубка, единственная, из которой Матвей Ионыч не курил, висела над рабочим столом, те же резные полочки на стенах, и над полочками — те же пейзажи.
За два года одна только эта «маячная башня» не переменилась — так показалось Льву Иванычу, только что проехавшему весь Советский Союз. Но сам хозяин стал еще страшнее и добрее, чем прежде. И еще молчаливее, если это было возможно.
— Ну, что у вас тут? Все в порядке? Ванька где? В институте?