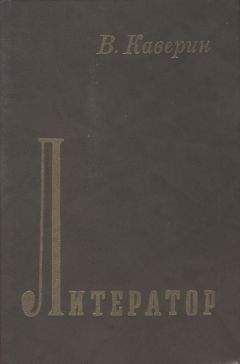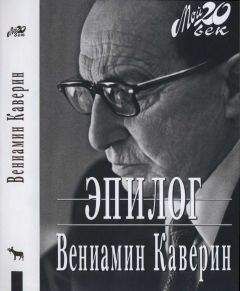Вениамин Каверин - Избранное
Он получил письмо от Трубачевского и долго читал его, сгорбившись и разглаживая кулаком усы. Одна фраза была, кажется, взята из письма Пушкина, и вообще Трубачевский хороший, очень способный, запутавшийся мальчик; вот он пишет теперь, что виноват только в том, что слишком долго медлил. Он пишет, другими словами, что рукописи украл не он, а кто-то другой. Кто же этот… другой? Теперь уж лучше было, пожалуй, не «входить в существо вопроса». Но он попросил, чтобы Неворожина к нему не пускали, а с Дмитрием почти перестал говорить.
Он ответил Трубачевскому: «Дорогой Николай Леонтьевич, вы не думайте, пожалуйста, что я вас обвиняю. Напротив, очень жаль, что слабость после припадка помешала мне остановить безобразную сцену. Вчера ко мне никого не пускали, а сегодня лучше, и я рад буду вас увидеть. Ваш Бауэр».
Это письмо, которое вернуло бы Трубачевскому все его потери, начиная с доброго имени, было отдано Анне Филипповне с твердым наказом сегодня же опустить в ящик. Но старуха забыла его в прихожей, и оно пролежало до тех пор, пока Дмитрий, у которого были свои причины интересоваться перепиской отца, не нашел его среди вновь полученных писем.
Он прочитал его, и Трубачевский не дождался ответа.
Самые ценные бумаги из архива Сергей Иваныч велел перенести в свой кабинет, и они теперь лежали, запертые на ключ в маленькой конторке, стоявшей подле его изголовья. По утрам, едва проснувшись, он садился на подушку и заглядывал в конторку — все ли на месте? Это случалось иногда и днем, когда никого не было в комнате. Посматривая на дверь, он быстро поднимал крышку и щупал бумаги.
Последние дни он много думал о Машеньке. Она волновалась, хлопотала и все делала сама, так что медицинская сестра рассердилась и наконец сказала, что не знает, зачем ее приглашали.
Теперь он уже разглядел ее как следует. Вот все говорят, что она — одно лицо с ним, а он видит теперь, что нет. Она похожа на мать, и даже эти отросшие волосики на лбу, слишком короткие, чтобы их заколоть, были такие же, как и у матери, — пушистые и светлее остальных волос.
Собственно говоря, он хорошо знал Машеньку, когда ей было лет десять. Она была толстая, вспыльчивая и теряла голову, когда приходили подруги, — просто не узнать. Это серьезно заботило его и огорчало. Подруг было много. Они ставили пьесы, ругали мальчишек и, как все девочки, без конца занимались личными отношениями — ссорились и мирились. Он до сих пор помнил их по именам. И Машка была не последняя среди них. Как она отплясывала русскую на домашнем спектакле! Кокошник упал… А сколько хлопот было с этим кокошником! И он все знал, во все входил, без него ни одной затеи не начинали.
Потом он что-то пропустил. И вот она сидит перед ним, большая дочка, и кофточка заколота агатовой брошкой, которую он когда-то подарил покойной жене.
Что Машенька станет делать, когда он умрет? А ничего… Ведь это только кажется, что мы так уж нужны детям. Вот вчера она спросила Щепкина, знает ли он студента Разумихина, и покраснела.
— Маша, а кто это Разумихин? — спросил он, когда, сменив салфетку, которой был покрыт ночной столик, и вновь поставив на него все лекарства, она присела к отцу с книгой в руках. — Студент?
Она подумала, что он бредит.
— Какой Разумихин?
— А вот… Что ты спрашивала.
— Когда? Ах, Карташихин?
Это было сказано равнодушно, но не слишком ли равнодушно?
— Да, он студент.
— Медик?
— Да.
— Что же, он у Щепкина занимается?
— В Медицинском институте, — быстро сказала Машенька, зачем-то переставляя на другое место бутылочки и порошки и вновь принимаясь убирать ночной столик, который она только что привела в полный порядок.
— И что же он… способный?
Она ничего не ответила, и он понял, что сказал не вслух, а в уме, а подумал, что вслух, — это уж не первый раз с ним случалось. Он повторил.
— Да, кажется, способный, — небрежно пробормотала Машенька.
Бауэр посмотрел на нее из-под ладони. Она сидела, как дура, растерянная и ужасно смешная. Он вдруг рассмеялся — по-молодому, так что весь маленький красивый рот стал виден под усами.
— Ну, ну, — сказал он и, поманив Машеньку к себе, поцеловал ее и обнял за плечи.
Потом снова начались боли, но ночью — он понял, что уже ночь, потому что Машенька была в халате и, откинувшись, закрыв глаза, сидела в кресле, — он снова вернулся к этим мыслям. Он оставлял только ее, больше у него никого не было на белом свете. Сын не удался, и он давно уже к нему равнодушен. Но Маша, Маша!
До болезни Бауэра жизнь в его доме была одной, теперь она стала другою. Эта новая жизнь — очень сложная, с напряженными отношениями между сестрой и братом, между отцом и сыном, с тайными расчетами одних, с растерянностью и горем других — была основана в конце концов на полной непредставимости того, что скоро непременно случится. Полотер должен был прийти в воскресенье, и дико, невозможно казалось отменить его, потому что Сергей Иваныч, быть может, умрет в субботу. Медную дощечку украли со входных дверей. Сергей Иваныч давным-давно заказал новую, мастер должен был принести ее на днях, и ни у кого силы не нашлось позвонить этому мастеру по телефону и сказать, что уже не нужно никакой дощечки.
Ни у кого, кроме Неворожина, который до сих пор не приходил (только имя его мелькало в разговорах), а теперь снова стал бывать почти каждый день — вежливый, хорошо одетый, с негромким голосом и прилично опущенными глазами.
Но вот и эта страшная жизнь остановилась.
2Почти полгода минуло с тех пор, как Карташихин переходил этот узкий двор, сторонясь пекарей, поминутно таскавших с крыльца на крыльцо бельевые корзины с дымящимся хлебом.
Найдя знакомое окно, он, как бывало, бросил в него горсточкой песка. Никто не выглянул. Он подождал и бросил еще раз. Никого — только маленький раскоряка дворник вышел и уставился на него с нерешительным видом.
— Дома нет. Ну что ж, поговорим с папой.
Папа был дома. В полосатом жилете, введенном в моду покойным президентом Эмилем Лубэ, он открыл дверь и с минуту глядел на Карташихина, уныло моргая.
— Ах, это вы? Это вы?
— Здравствуйте, — холодно сказал Карташихин, не любивший, когда его слишком горячо встречали. — Коля дома?
Старый Трубачевский что-то пробормотал, быстро, но бессвязно. «Грудь» его рубашки с большой костяной запонкой посредине так и ходила. Он волновался.
— Он болен. Очень болен.
— Лежит?
— Нет. Психически.
— Что?
— Психически… Я не знаю, нужно куда-то везти, — разбитым, старческим голосом сказал он. — Я его одного оставить боюсь.
— Да что с ним?
Медленно и с ужасом старый Трубачевский потрогал пальцами лоб.
— Это вы сами, — с досадой возразил Карташихин, — такой диагноз поставили или врач?
— Сам.
— Ну, тогда это еще не так страшно.
Старик взялся за голову и сел.
— Нет, это страшно, — сказал он, — это страшно. Я вчера ночью проснулся и чувствую — гарь. Пошел к нему, а он сидит голый, в одной рубашке, и прямо на полу жжет бумаги. По делу к нему пришли, молодой человек, очень порядочный, но его прогнал и прибил… Вы не поверите, я замучился, я замучился с ним. Ничего не ест, ходит целый день из угла в угол и уже начал заговариваться, — шепотом добавил он. — Я вчера его зову: «Коля, Коля!» А он молчит. Вот так сидит, как вы, через стол, и молчит. Потом вдруг улыбнулся и говорит: «Червь на дне».
— Как?
— «Червь на дне»… Это значит — в душе, — убежденно и торжественно сказал старый Трубачевский, — и по этим словам я вижу, что женщина.
— Женщина?
— Женщина, женщина! Он ей по телефону звонил, ночью, и после того началось… — Он взглянул на часы. — Вот сейчас ушел, сказал, что на полчаса, а у меня уже сердце не на месте.
Он не успел договорить, как звонок прогудел и лампочка в прихожей зажглась и погасла. Он побежал и обернулся в дверях.
— Вы с ним повеселей, повеселей! Как будто ничего, все в порядке.
И, сделав веселым и спокойным свое бледное усатое лицо, старый музыкант побежал отворить двери.
Карташихин видел Трубачевского в последний раз перед отъездом к Льву Иванычу, стало быть, тому назад месяца четыре. Он не нашел особенной перемены. Ему показалось, впрочем, что Трубачевский похудел и стал, кажется, немного выше ростом.
— Ты что это, никак еще растешь? — спросил он, протягивая руку.
— Ваня!
Старик ушел, и они остались одни.
3Уже петухи кричали (на Петроградской в некоторых дворах тогда еще кричали петухи), когда был кончен этот разговор. Все было рассказано — и с такой энергией, с таким отчаянием, что Карташихин давно забыл о своей роли беспристрастного судьи, которую заранее приготовил. С волнением слушал он Трубачевского и хотя видел, что тот во многом сам виноват, не упрекнул ни одним словом. Он смутно чувствовал, что в этой истории Трубачевский был как бы «точкой приложения сил», всего значения которых он не понял. Он вспомнил разговор между старым Щепкиным и Неворожиным, из которого впервые узнал, что пушкинские рукописи покупаются и продаются. Но, может быть, не только в рукописях была сущность дела!