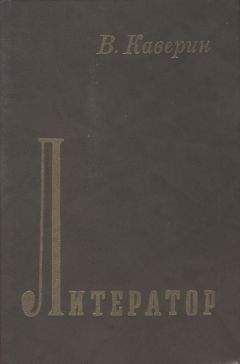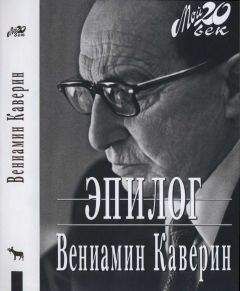Вениамин Каверин - Избранное
Он говорил — и старый, всем надоевший спор получал в его словах новый смысл. Это был спор между двумя науками, старой и новой, — спор политический, в котором он должен был в последний раз доказать свою правоту. И, доказывая ее, Бауэр не опирался на мировое признание своих трудов — он не процитировал себя ни разу. Медленно — как будто ему некуда было торопиться — он разобрал труды щепкинской школы и доказал, что их кажущаяся мертвая правильность никуда не ведет.
— Вот и Пушкин! Пушкин, которого нам так долго не хотели отдавать, которого как бы стремились опорочить перед народом, осмеливаясь упрекать его и доказывая тем самым, что они его никогда не любили, не понимали…
Кратко, но ничего не пропуская, он перебрал все, что сделано в науке за последние годы. Он указал на огромные нетронутые области и поблагодарил аспирантов Академии наук, работавших под его руководством, за то, что они занялись восемнадцатым веком.
— Вам легче работать, ваша молодость легче, чем наша. Новый фактор, материалистический, завоевал полное признание и в науке и в жизни. Я говорю о передовой науке. Может быть, теперь удастся понять многое… Понять истинный характер тех исторических явлений, институтов древности, которые были в такой же мере известны, как и не поняты…
Он замолчал, но на одну минуту.
— И еще одно. За долгие годы работы я собрал много книг, много редких рукописей, среди которых найдутся, пожалуй, и единственные экземпляры. Это все отдаю я вам. Университету или Публичной библиотеке, пускай уж там рассудят, — но вам, которые придут на паше место в науке. Я тоже вот все собирался… Может быть, и многое еще удалось бы сопоставить, понять… Но руки не дошли… Да, впрочем, и не могли дойти до всего, что там собрано за целую жизнь. Это уж вы… Это уж ваше дело!
Он говорил долго, и все яснее, увереннее звучал его голос, слабый румянец выступил на худых щеках. Он выпрямился, поднял голову, и все случайное, мелкое как бы отступило перед ним, оставило его, и сама смерть, о которой, казалось, невозможно было забыть, отступила перед твердой, умной силой его мысли, его науки…
Разбитый и подавленный, Трубачевский вернулся домой. Он открыл окно, и холодный осенний воздух вошел в комнату вместе с тихими голосами у ворот и равнодушно-тихим светом соседних окон. Он больше ни о чем не думал. Он чувствовал себя ничтожным со всеми своими обидами, неудачами и отчаянием. Слова Бауэра, так просто и с такою гордостью сказанные, еще звучали в его ушах. Какую жизнь нужно прожить, чтобы так ее закончить! Нет! Нет! Не было ни обид, ни огорчений. Этот человек — вот его единственная и страшная потеря.
А через две улицы от него лежит в своей постели Бауэр — длинное исхудалое тело под тонким одеялом, на высоких подушках.
Голова опущена на грудь, высокий желтый лоб кажется в полутьме еще желтее и выше. Он дышит ровно, но быстро и неглубоко. Две женщины, стараясь не глядеть друг на друга, сидят подле его постели.
Глава шестая
Лекция в актовом зале была последним выступлением Бауэра. Он готовился к ней очень тщательно и почти всю записал, чего прежде никогда не делал. Но вот он прочитал ее — и пустота образовалась в тех ежедневных занятиях, которыми он жил последнее время.
— Простился, пора бы, собственно, и в дорогу, — на другой день после лекции хмуро сказал он Машеньке.
Но такое настроение продолжалось недолго. Академическое издательство, не зная, может быть, как тяжело он болен, прислало внушительное напоминание о необходимости сдать в срок «Историю пугачевского бунта», угрожая в противном случае «затребовать с него все полученные им суммы».
Сумм он никаких не получал, но к напоминанию отнесся очень серьезно.
— Нужно кончить, — сказал он, — а то вот… уеду — и не разберут.
Как и прежде, он стал вставать очень рано и, случалось, сидел уже за письменным столом, прежде чем в доме просыпались.
Машенька пробовала его урезонить, но он только посмотрел на нее и тихонько махнул рукой.
Каждый день к нему являлся кто-нибудь — из Академии, от издательства, из Пушкинского дома, и он со всеми говорил, не торопясь и входя во все подробности дела. Он только спрашивал:
— А вы не врач? Ну, тогда ничего. А то они мне, знаете, просто до смерти надоели! Вот последнее время все под другим видом ходят. Инкогнито. Придет как человек, а смотришь — врач.
Только для Александра Щепкина было сделано исключение. Он пришел на следующий день, после того как Машенька его об этом попросила, и с тех пор стал бывать очень часто.
Это был единственный врач, который не убеждал Сергея Иваныча лечиться и даже не говорил с ним о его болезни. Но о медицине он говорил и ругал ее, и Сергей Иваныч совершенно с ним соглашался.
Он рассказал ему о той буре, которую вызвала в медицинских кругах недавно вышедшая книга Федорова «Хирургия на распутье», представил в лицах главных участников спора.
Каждый раз он являлся с новостью: то в Лейпциге удалось сохранить живыми жуков в замороженном состоянии при 253° ниже нуля, то Детердинг устраивал заговор против советской нефти, то в Ленинграде пропадал чай. Он достал и принес Сергею Иванычу пьесу современного автора «Пушкин, или Загадка любви», и после каждой сцены они сидели, схватившись за животы, задохнувшись от смеха. Особенным успехом пользовался третий акт, в котором Пушкин объяснялся в любви Анне Керн: «Сбросьте этот гнет… Забудем все предрассудки! К черту все это барахло! Мы уйдем отсюда далеко-далеко! Вас обрадуют эти просторы и многое заставят забыть… Бурные порывы всколыхнутся в вашей душе! Вот это жизнь!»
Он никогда не упоминал ни об отце, ни о той ссоре, из-за которой он шесть лет не являлся в дом, где его любили. Но Сергей Иваныч знал откуда-то, что его болезнь не остановила старого Щепкина и не угомонила.
По-прежнему он выступал против него на всех заседаниях, по-прежнему ехидствовал и интриговал, а в последнее время предпринял работу, которая должна была «окончательно уничтожить» Бауэра в глазах всего ученого мира. С пером в руках он сызнова прочитал его труды, начиная с первых студенческих рефератов, и выписал все ошибки, разбив их предварительно на четыре главных разряда: стилистический, текстологический, идеологический и источниковедческий, что в общей сложности должно было составить книгу в двадцать печатных листов. Это будет ударом, от которого враг не встанет.
«Враг» еще вставал, но все реже. Болезнь его становилась все безобразнее и страшнее. Постоянные рвоты мучили его, он почти ничего не ел, и никакие дозы морфия уже не могли успокоить болей.
Варвара Николаевна ему понравилась. В первый же день знакомства он объявил ей, что с гимназических лет любил красавиц. «А в том, что вы красавица, — с изысканной вежливостью добавил он, — даже самый великий скептик не мог бы усомниться».
Он знал, что с ее появлением все в доме переменилось. Давно уже не было порядка в семье, а теперь и самой семьи не стало. Давно уже в отношениях были опасные места, которые принято было обходить по молчаливому уговору. А теперь все стало сплошным опасным местом, и то здесь, то там вдруг пробивалась ссора.
Он знал, что Машенька не любит ее и вообще не согласна с тем, что она появилась в доме. Все ее раздражало — и то, что Варвара Николаевна посылает старуху по своим делам, и то, что она спит до обеда, и то, что она приходит к Сергею Иванычу нарядная, надушенная и по-дружески небрежно и быстро говорит с ним.
Но ему это нравилось.
— Вот Дмитрий… удачно женился, — сказал он Щепкину, представив ему Варвару Николаевну и глядя на нее через кулак, точно так же, как смотрел на свои рукописи. — Ведь он, между нами говоря, такой женщины не стоит.
Он знал, что она вышла замуж только для того, чтобы попасть в этот дом и распорядиться всем, что здесь было, по своему усмотрению. Она перенесла в свою комнату старинные дорогие часы, тридцать лет простоявшие в столовой, и попросила Сергея Иваныча подарить ей превосходный рисунок Александра Брюллова, висевший до сих пор в архиве. Павловский буфет был уже отполирован, и это было не очень прилично хотя бы потому, что столяр-краснодеревщик целую неделю работал в квартире, куда даже врачей не пускали.
Но ко всему этому Бауэр был уже вполне равнодушен. Только Неворожина, с которым (он и это знал), она была дружна, он не пускал к себе и однажды откровенно сказал ей, «у такой умницы, как она, должен быть, кажется, хороший вкус на людей, а тут… не видно».
— Этот мужчина, по-моему, какой-то идейный бандит. А может быть, и безыдейный. Просто бандит. И дурного тона. От него, знаете ли, чем пахнет? Политическим убийством. А я смолоду этого запаха не выношу.
Он получил письмо от Трубачевского и долго читал его, сгорбившись и разглаживая кулаком усы. Одна фраза была, кажется, взята из письма Пушкина, и вообще Трубачевский хороший, очень способный, запутавшийся мальчик; вот он пишет теперь, что виноват только в том, что слишком долго медлил. Он пишет, другими словами, что рукописи украл не он, а кто-то другой. Кто же этот… другой? Теперь уж лучше было, пожалуй, не «входить в существо вопроса». Но он попросил, чтобы Неворожина к нему не пускали, а с Дмитрием почти перестал говорить.