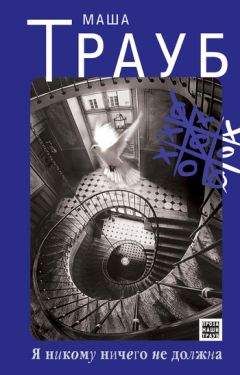Елена Серебровская - Весенний шум
Геня посещал семинар по искусству.
Семинар вел профессор Елагин — маленький веселый человечек, острослов и балагур. Многие считали, что Елагина куда интереснее слушать в перерывы между часами занятий, чем во время самих занятий, — с него спадала официальная личина лектора, связанного программой; и тогда перед студентами появлялся знаток исторических курьезов и любопытных деталей из жизни известных личностей.
Семинар совсем недавно закончил свою работу, и студенты решили устроить прощальную вечеринку вместе с профессором. Из Машиной группы в этом семинаре занимался один Геня. Он тоже присутствовал на вечеринке, которая происходила на квартире одной из замужних студенток. Вечеринка устраивалась в складчину.
Вот об этой вечеринке и стал рассказывать Геня своему товарищу Маше Лозе. Рассказывать потому, что многое ему очень не понравилось, многого он вовсе не мог понять и оправдать.
Профессор Елагин был фрондером и скептиком в вопросах развития искусства. Он тяготел к абстрактной живописи, любил кубистов, считал Сезанна недостаточно левым, а Бродского — безыдейным фотографом. В приближении советской живописи к реализму профессор Елагин видел измену революционным принципам искусства, которое еще долго будет призвано ломать привычные понятия, отрицать прошлое. Он очень резко разграничивал сферы искусства и науки, считая, что искусство само по себе вовсе не средство познания жизни, оно — часть этой жизни, и потому совсем не обязано изображать реальность. Высшее существо в искусстве — сам творец, художник, его прихоть — важнее и дороже всякой плоской действительности.
Несмотря на свою «революционность», профессор был поклонником стихов Ходасевича. На вечеринке он пояснил, что поэт Ходасевич по сути дела рисует настроения, типичные и для русской интеллигенции послереволюционного периода.
— Ну, это положим, — сказал тогда Геня Миронов, намереваясь вступить в спор хотя бы с самим профессором Елагиным. — Ходасевич декадент, оттого у него и тоска в стихах.
Профессор Елагин не обернулся к дерзкому студенту, не стал возражать, он просто его не заметил, как слон не замечает моську. Но зато преданный поклонник профессора студент младшего курса Игорь Курочкин сказал Миронову довольно громко:
— Прибереги свою эрудицию для другого раза. И научись вести себя в обществе.
Геня мог бы ответить Игорю, как полагается. Но он не знал, много ли здесь его единомышленников, после изрядного возлияния у всех шумели головы, и устраивать серьезную дискуссию не имело смысла.
Что же именно ранило сердце Машиного товарища? Неправильные высказывания профессора?
Нет, ошибки профессора Елагина не были неожиданными для Гени, прочитавшего годом раньше многие ранние работы, заметки и статьи профессора, которые были знакомы далеко не всем студентам. Неприятно, что старик добивается популярности таким странным способом, что он вбивает студентам в головы ложные понятия и представления. Но гораздо сильнее огорчил Миронова тот факт, что никто из присутствовавших на вечеринке ребят не дал старику отпора. Никто, — а ведь в состав семинара входили нормальные ребята, вовсе не отпетые объективисты или путаники. Допустим, не все прислушивались к этому разговору, но те, кто слушал, почему они почтительно молчали?
А еще больше разозлило Геню поведение Игоря Курочкина. Этот вел себя откровенно подхалимски. Геня привык считать его комсомольским активистом. Геня не раз слышал выступления Игоря на собраниях, читал его заметки в областной комсомольской газете, и вдруг этот Игорь…
Выслушав Геню, Маша стала на его сторону. Натура ее требовала тотчас предпринять что-нибудь, дать отпор фальшивому парню Игорю Курочкину. Но ни она, ни Геня не могли придумать, что же все-таки сделать. Геня не хотел ставить вопрос в комсомольской организации, — ведь именно его оборвали и не поддержали на вечеринке у Ольги, так кто же засвидетельствует, что все происходило так, а не иначе? Игорь всегда найдет объяснения, да и сам факт, что присутствовавшие находились в состоянии подпития, не способствует выяснению истины, а затрудняет это.
Нет, предпринимать ничего не следует. Надо просто учесть этот случай, чтобы подобные поступки Игоря Курочкина не стали в будущем неожиданностью.
Маша не привыкла разговаривать шепотом, голос ее был слышен не только в укромном углу коридора возле запертого книжного шкафа, где они стояли с Мироновым. Трудно было скрыть возмущение аморальным поведением своего товарища-студента, а поведение Игоря Курочкина казалось и Маше и Гене чуждым морали советского молодого человека. Подхалимство, из-за которого люди поступаются своим самым дорогим — идеями, — так определил это Геня Миронов, и он был прав.
— О чем это вы так бурно спорите? — раздался голос откуда-то из-за Машиного плеча. Маша обернулась — возле них стоял член бюро партийной организации факультета Антон Рауде. Рыжеволосый, в роговых очках, он смотрел на студентов с любопытством, улыбаясь им. Он был аспирантом последнего курса.
— Мы, собственно, не спорим. Мы так, беседуем, — ответил Геня. Рауде ему не нравился, хотя и был активистом.
— А все-таки? Я слышал, вы о Курочкине упоминали…
Маша рассказала о сути дела. Она не расписывала всех деталей, она сказала только, что возмущена, как и Миронов, подхалимским поведением Курочкина по отношению к неуместным рассуждениям профессора Елагина.
— Курочкин? Он, как будто, до сих пор вел себя, как принципиальный комсомолец, — сказал Рауде. — Да, нехорошо, нехорошо. Вы не распространяйтесь пока об этом факте, я сам займусь и выясню. Может, Миронов его не так понял, а может, и наоборот. Ты тоже был выпивши?
— Странно присутствовать на вечеринке и не быть хотя бы немного выпивши, — недовольно ответил Миронов.
— Нет, я понимаю, что суть разговора от этого не меняется, — поспешил объяснить Рауде. — Дело только в том, можно ли, например, выносить такой факт на обсуждение, если тебе придется ответить на вопрос о выпивке положительно. Знаешь, народ у нас разный, могут тебя же и поставить в неудобное положение.
— Никто и не предлагает обсуждать это, — мрачно сказал Геня. — А знать это, мне кажется, надо, мы еще очень плохо знаем друг друга. Формально знаем.
— Вот это правильно, — сказал Рауде, хлопнув Миронова большой красной рукой по худенькому плечу. — О бдительности помните, ребята, это сейчас на повестке дня. Враги маскируются, враги не такие простаки, как некоторые думают!
И он улыбнулся, обнажив свежие розовые десны.
Прошли две недели, две ничем не примечательные недели.
Приближался срок Лидиного доклада на научном кружке. Маша должна была непременно присутствовать. Лида собиралась позвать даже Ивана Сошникова — она вложила много души в эту работу, это было первое ее самостоятельное выступление на научном кружке. И хотя крестьянское революционное движение в сороковые годы прошлого столетия не казалось Ивану темой злободневной, он все же решил прийти на Лидин доклад, хотя бы уже потому, что это был доклад Лиды Медведевой.
Однажды во время семинарских занятий на Машин стол упала записка: писал комсорг Гриша Козаков, она сразу узнала его бисерный почерк:
«Я узнал от одного надежного парня, что тебе хотят подложить свинью. Через прессу… После занятия надо поговорить. — Григорий».
В перерыв Гриша рассказал ей, что против нее написана статья для комсомольской областной газеты, он узнал случайно. Статья клеветническая. Надо предотвратить ее появление, пока не поздно.
— Что ты такое сделала Игорю Курочкину? — спросил Гриша, когда Маша стала гадать, кто же мог написать против нее статью.
— Ничего не сделала… А впрочем… — Она вспомнила разговор с Геней и тотчас рассказала о нем Козакову.