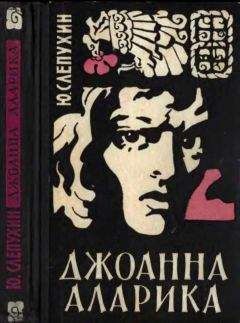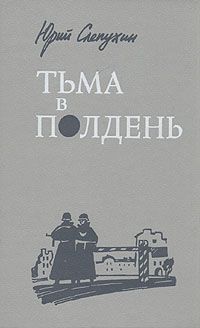Юрий Слепухин - У черты заката. Ступи за ограду
От долгой тирады у него пересохло в горле, он потянулся к своему стакану, увидел, что в нем пусто, и налил из шекера Жерару и себе. Тот сидел в низком кресле, обхватив руками торчащие колени, и с угрюмым выражением сосал давно погасшую трубку.
— Все это не то, Брэдли, — пробормотал он сквозь зубы, — я хоть и моложе вас, но тоже достаточно хорошо успел изучить «свободный мир», так что никаких Америк вы мне не открываете. Но тот факт — пускай неоспоримый, — что наше общество протухло сверху донизу, еще не является для меня достаточно веским основанием, чтобы делать то, что вы предлагаете, Тут нужно пытаться спасти то, что еще осталось, — какие-то ценности высшего порядка, вы понимаете, — а не самому превращаться в носителя заразы.
— Опять громкие слова! О какой заразе вы говорите? Что я вам предлагаю — подсовывать порнографические открытки школьникам, что ли? Кого-то развращать? Руффо был законченным развратником уже в то время, когда вы бегали в коротких штанах. Что он, превратится в девственницу от того, что вы сделаете красивый жест и откажетесь от его предложения? Или общество от этого станет лучше? Не будьте же ослом, Бусс! Он найдет себе более покладистого художника и все равно получит свое. А вы потеряете возможность, которая представляется не каждый день, — возможность заработать за несколько месяцев полмиллиона песо и потом жить и работать, ни от кого не завися. Подумайте о перспективах, которые это перед вами открывает. Цель вашей работы — обобщенно говоря — привить публике вкус к той живописи, которую вы считаете хорошей и здоровой. Так неужели вы до сих пор не поняли, что в наши дни вкусы диктует тот, у кого деньги? Вашими картинами сейчас не интересуются вовсе не потому, что они плохи, а потому, что о вас не пишут в газетах. Поймите это, Бусс. Будь у вас деньги, будь у вас возможность снять лучший зал в городе и заплатить газетчикам за хорошее «паблисити» — на ваших вернисажах будут толпиться сливки общества. Вот тогда и начинайте прививать публике свой вкус! А благородные нищие и непонятые гении никого не интересуют, — не то время. Мы живем в двадцатом столетии, пора бы это понять… Чего же вы молчите, Бусс? Если есть возражения — выкладывайте!
Жерар молчал. Что можно возразить? В самом деле, что можно на это возразить? Радио в соседней квартире играло теперь знакомый мотив — модную в свое время румбу «Сибонэй», которую он однажды танцевал с Дезире в маленьком монпарнасском ресторанчике. Это было очень давно, — теперь он потерял Дезире, потерял родину, растерял друзей. Всех этих жизнерадостных ребят, его однокашников по высшей художественной школе, в свое время вместе с ним поклявшихся до смерти бороться за обновление французской живописи. Нечего сказать, обновили…
Он вернулся на место и допил свой коктейль.
— Похоже, что вы кое в чем и правы, — сказал он с кривой усмешкой. Голос его дрогнул. — Я сейчас пока ничего не знаю, еще подумаю… Но вы дайте мне телефон этого типа. Если решу взяться за это дело — я ему позвоню.
— Правильно, вы подумайте, — кивнул Брэдли. — Торопиться с этим некуда, а дело серьезное. Я уже сказал вам, что прекрасно понимаю, насколько неприятным должно быть для вас такое предложение…
327 декабря. Уже неделя, как я живу в квартире Брэдли. Через три дня после нашего разговора вдруг является посыльный с ключом и запиской: оказывается, толстяку срочно пришлось вылететь в Штаты месяца на три и он предлагает мне воспользоваться на этот срок его апартаментами. Пожалуй, не стоило этого делать, но хозяйка моя слишком уж ведьма, а искать где-то новую комнату нет ни энергии, ни денег. Да и, откровенно говоря, захотелось наконец пожить в человеческой обстановке, В конце концов, квартира все равно пустовала бы. Брэдли уплатил за нее за полгода вперед, так что в этом смысле мне нечего беспокоиться. Одним словом, сейчас я живу в роскошной квартире, в самом фешенебельном районе столицы, а обедать езжу в порт, в самую дешевую харчевню — «Трес маринерос». Без драки там не проходит ни одного дня, но зато за песо можно получить полную тарелку жратвы и стакан красного. От Изольдиных двух тысяч почти ничего не осталось, я и сам не знаю, куда они делись. Купил себе туфли, роздал долги, заплатил хозяйке, а на сорочки уже не хватило. Немного отложил на еду и табак, вот и все. Впрочем, все это чушь. Вчера я сделал последнюю попытку — как бы это покрасивее выразиться? — остаться честным человеком и сохранить незапятнанными мои высокие моральные принципы. Увидел в газете объявление: требуются рабочие всех специальностей на строительство текстильной фабрики. Поехал туда, Это за городом, но не так уж далеко. Оказалось, что ездить не стоило. Рабочие им действительно требуются, но в отделе персонала меня спросили специальность и, когда я назвался землекопом, попросили показать руки. После чего служащий пожал плечами и посоветовал бросить тотализатор, «пока не поздно». Принял меня за проигравшегося на скачках, — здесь такие не редкость. Уже на обратном пути я сообразил, что мог бы попросить место шофера. Впрочем, у меня ведь нет профессиональных прав.
На всякий случай побывал в консульстве. Туда иногда обращаются, если нужен учитель французского или коммерческий переводчик. Сейчас ничего нет. Секретарь посоветовал возвращаться во Францию, а относительно денег на проезд обратиться с просьбой в «Клуб французских резидентов». Пошел он с такими советами! Еще унижаться перед всякими дамами-патронессами, только этого не хватало.
Да и что мне даст теперь Франция? Возможность поступить в Иностранный легион и подохнуть от пули какого-нибудь алжирца или аннамита? Тогда уж лучше подохнуть здесь, это по крайней мере честнее (несколько слов зачеркнуто)… страшная злоба на все это проклятое общество, а иногда просто страх.
Такой припадок страха был сегодня ночью — когда я понял, что прочно и окончательно залез в мышеловку и теперь мне отсюда не выбраться. Панический страх. Почти такой же, как тогда в сорок четвертом, когда подрывали эшелон из Клермон-Феррана, а англичан черт принес с их самолетами. С бошами мы справились, а под бомбежку угодили. Меня завалило обломками водокачки, и когда я очнулся и почувствовал себя заживо погребенным — вот там я узнал, что такое страх! Я просто не мог вынуть пистолет — иначе хлопнул бы себя в ту же секунду. Вот так и теперь. Хотя, если подумать, то хуже. Тогда, по крайней мере, было за что умирать, а сейчас тебя завалило — и не знаешь, за что, почему, ради чего. Сплошной бордель.
31 декабря. Ну вот и Новый год, тысяча девятьсот пятьдесят третий от рождества христова. В Париже он уже наступил, здесь наступит через два часа — сейчас его встречают на судах посредине Атлантики. Термометр снаружи показывает плюс 34 по Цельсию. Как ни странно, к этому привыкнуть труднее всего — к новогодней жаре. Хорошо еще, что в квартире воздух искусственно охлаждается.
За окном — дождь бенгальского огня, взвиваются разноцветные ракеты, медленно улетают маленькие бумажные монгольфьеры, освещенные изнутри стеариновой плошкой. Бурный темперамент не позволяет аргентинцам дождаться полуночи — празднование Нового года здесь всегда начинается заранее, чуть ли не с заката солнца. Сегодня я истратил последние пиастры — купил куклу дочери консьержа Аните, а для себя бутылку хорошего бордоского. В двенадцать включу радио, настроюсь на Франс-II и буду слушать и пить за собственные успехи.
Да, вчера звонили из консульства — заходил какой-то тип, спрашивал обо мне, похоже, что хочет купить «Отъезд из Вокулёра». Я ответил, что эта вещь не продается. Секретарь пробурчал что-то насчет того, что я, мол, живу в квартире с телефоном и отказываюсь продавать картины, а прикидываюсь безработным. Я не дослушал и повесил трубку. Потом меня подмывало позвонить ему и пригласить на коктейль-парти. Если бы он увидел квартиру — совсем бы рехнулся. А по сути дела, «Отъезд» следовало продать. Какие уж тут красивые жесты, когда жрать нечего! Но все равно, Жаннету я не продам. Слишком к ней привык. Тем более что лишняя тысяча пиастров ничего не изменит, а только оттянет развязку.
5 января. Потешная история. Уже четыре дня промышляю в «Трес маринерос» карандашными экспресс-портретами — увековечиваю посетителей. Желающих много, хорошо платят. Впрочем, теперь эти глаголы следует переставить в «пассэ дефини»: промышлял, увековечивал, платили. Напротив харчевни расположена минутная фотография — я этого просто не учел. Сегодня, когда я как раз был в ударе и увековечивал одного парня с финского лесовоза, зашел фотограф — повертелся, заглянул через мое плечо. А под вечер, когда я в радужном расположении духа шел отдыхать после трудов праведных, со мной поравнялась какая-то мрачная личность и таким же мрачным тоном посоветовала отдать швартовы и переменить якорную стоянку. Он даже не уточнил, что меня ожидает в случае ослушания. Это, как говорится, было понятно без слов. Стоянку я пообещал переменить, потом личность попросила у меня два пиастра на кружку пива, и мы расстались по-джентльменски.