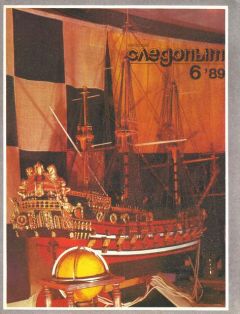Сергей Малашкин - Записки Анания Жмуркина
— Черт знает что. Ведь всаднику некуда ехать. Всадник не желает — ни вперед, ни назад! — воскликнул я. Лю-лю, лю-лю — звенело громче сбоку. Лю-лю, лю-лю — звенело над головой. И вдруг все смолкло. И всадник провалился. Мрак исчез. Ударил яркий солнечный свет. В нем ряд высоких окон, простенки. Я на койке, под дымчато-серым плюшевым одеялом, под прохладно-снеговой простынею. Налево — я лежал у стены, в углу — ряды коек. На белых крупных подушках темнели головы, фосфорически горели глаза. Моя левая рука, тяжелая, словно чужая, на груди. От нее пахло марлей и йодом. Загремел трамвай. Я вздрогнул, сжался под одеялом. Гром и лязг трамвая напомнил мне звук падающего снаряда. Трамвай пролетел мимо дома и был далеко, где-то на конце Большого проспекта. Я успокоился. Глянул. «Чьи это глаза? Где я видел их?» Насторожился.
— Не признаешь? — спросили голубые глаза. — Я — Синюков. Рядом со мною — Евстигней, твой земляк. Хорошо, что мы встретились. — Он сделал паузу и вздохнул. — Ем много, а не поправляюсь, даже врачи дивятся. Знать, не в коня корма. — Его глаза улыбнулись болью, и он глухо пояснил: — Поем, а из меня обратно… Это болезнь от контузии… от удушливых газов.
У него серое лицо — кожа и кости, голубые глаза. Они горели слабым светом жизни. Чтобы не видеть их света, я опустил веки и стал бормотать о всаднике, о лошади и о том, что всадник приехал и ему больше некуда ехать. В палате тишина. Не пахло, как в вагоне, запекшейся кровью. Лю-лю, лю-лю — опять звенело где-то сбоку. Лю-лю, лю-лю — отзывалось опять где-то над моей головой. Синюков молчал. Он трудно дышал. Слабый свет его огромных глаз на мне.
— Ананий, я не хочу умирать, — прохныкал Синюков.
— И не надо, раз не хочешь, — отозвался я. — Кто не хочет, тот и не умрет. Живи.
— Меня ждет и никак не дождется мать. Я ведь один у нее. Господи, — вздохнул Синюков, — сегодня я видел ее во сне, маму. Она шла по берегу реки, по узенькой тропочке, которая все время терялась в густой траве. Мать шла и часто подносила ладонь ко лбу, глядела и глядела из-под нее на большак. Как бы я хотел подняться и побежать по нему к ней навстречу.
— Ты пойми, Синюков, лошадь хочет на простор, а всадник…
— Жмуркин, ты мне нравишься, — прожужжал голос с койки, что стояла у стены, против моей. — Я подарю тебе святое Евангелие. За чтением его ты возлюбишь и всадника. Людям не надо стремиться вперед, как не надо и назад, а только к богу. Всадник, о котором ты все время говоришь, понимает это… Как же ему, помазаннику божьему, не понимать судеб наших предназначение.
«Монашек? — удивился я и тут же ответил: — Он, он».
Чтобы не слушать его сладенькое жужжание, я спрятал лицо под простыней и одеялом.
Свежий, прохладный запах постели успокоил меня.
V«Евстигней жив. Лежит рядом с Синюковым. Не убит, не остался на поле боя. Но что же он молчит?» — размышлял я. Земляк лежал неподвижно и тихо стонал. Лицо у него желтое, как воск. Его рыжие усы росли вверх, топорщились, закрывая кончик носа. Землистые губы полуоткрыты. Он не замечал меня, — ему, видно, не до земляка: собирался в дальнюю дорогу. Да и нехороший дух шел от него. Евстигней был ранен штыком в живот. Об этом сказала мне Нина Порфирьевна, старшая сестра нашего этажа. Игнат в соседней палате. Из полуоткрытой двери долетал до моего слуха его деревянный голос:
— Культура? Что такое культура? Это похлебка из тыквы.
Я вздрагивал. Затем, успокоившись, начинал разговаривать с монашком, который, прижав раненую руку к груди, мог часами смотреть на меня или в какое-нибудь окно. Стихи Игната нелепы, неуклюжи. Я затыкаю уши углами простыни. Дальше, за Евстигнеем, лежали Семен Федорович, Морозов и Первухин. Семену Федоровичу было лет двадцать, не больше. У него интеллигентное лицо, большие синие глаза. До призыва в армию — его взяли в 1915 году — он жил в Москве, работал слесарем на заводе. Семен Федорович держал себя неровно: то смеялся и резвился, как мальчик, то был мрачен и молчалив, то плакал, уткнувшись лицом в подушки. Он был веселым тогда, когда не думал о левой ноге, оставшейся на позиции под Двинском. Он был мрачным тогда, когда приходил с перевязки, после обмороков. Плакал он тогда, когда у него чесалась пятка и шевелились пальцы на отсутствующей ноге. Плакал Семен Федорович потому, что рукой не находил под одеялом и простыней ноги, чтобы почесать пятку и потрогать пальцы: там, где должна быть нога, пустое место. Его надрывный, тихий плач, как и смех его, действовали мне на нервы. Другие раненые чувствовали себя не лучше от плача Семена Федоровича: они, чтобы не видеть содрогания его плеч, прятали головы под одеяла и лежали неподвижно. Только монашек, казалось, относился равнодушно к плачу Семена Федоровича, держал забинтованную руку на груди и, уставившись взглядом в окно, покачивался и покачивался туловищем, как каменный болванчик. Рядом с монашком койка Шкляра.
Шкляр уже выздоравливал, мало лежал, больше сидел.
У Шкляра грудь увешена серебряными и золотыми георгиевскими медалями и крестами всех степеней. Говорят, что он был ранен несколько раз, но не серьезно: в ноги, в руки и в плечо. У Шкляра быстрые черные глаза, смуглое лицо, толстые губы и небольшой, картошкой нос. Волосы, подстриженные под ерша, отливали синью. Он мало говорил, был, как девушка, скромен и застенчив, но георгиевские медали и кресты, украшавшие его узкую грудь, носил гордо, с достоинством. А как же иначе носить? Только так. Ведь Шкляр — еврею не так-то легко получить такие высокие медали и кресты — получил их действительно за свою доблесть на фронте, за проявленный героизм в боях за родину.
Я смотрел на Шкляра с восхищением, когда он поправлял благоговейной рукой на груди георгиевские медали и кресты.
Рядом с ним, против Евстигнея, лежал Алексей Иванович, высокий и широкоплечий, с темной бородкой и ясно-серыми глазами крестьянин, — он был ранен навылет пулей в грудь и кашлял кровью. Вдоль лицевой стены стояли койки Прокопочкина и Первухина. Морозов лежал между Первухиным и Семеном Федоровичем. Первухин и Морозов, как и Шкляр, уже выздоравливали и время проводили больше в клубе или в соседних палатах. У Прокопочкина не было правой ноги. Вместо нее искусственная, которую он прилаживал к обрубку раза два в день и, прихрамывая, учился ходить — ходить по палате, вдоль своей койки. Протез сухо скрипел ремнями и пружинами. Прокопочкин, плача синими глазами, улыбался нижней частью лица, тихо приговаривал:
— Рубь двадцать, рубь двадцать, рубь двадцать.
Признаться, в первые дни моего лежания в лазарете его прогулки с протезом действовали на меня сильнее плача и смеха Семена Федоровича. Я закрывал одеялом лицо и стучал зубами от внутренней боли. Рука начинала ныть нестерпимо, словно в ране, под повязкой, сидел отвратительно-злой зверек и грыз раздробленную кисть. «Лучше бы Прокопочкин плакал навзрыд, как Семен Федорович. Лучше бы он смотрел с койки, как монашек, каменным болванчиком, чем гулять с протезом в обществе людей, измятых войной», — размышлял я. После каждой прогулки Прокопочкин отделял искусственную ногу от обрубка, клал ее на койку и, тяжело дыша от усталости, вытирал платком ее металлические и деревянные части, затем завертывал в простыню и осторожно, как больного ребенка, клал ее на широкий подоконник. Потом снимал халат, ложился в постель и, отдохнув немного, начинал говорить о красавице жене, о том, как она любила его и боялась его.
— Знаете, моя жена первой плясуньей слыла на игрищах. Она, бывало, собирается на улицу, а я — бить ее. Бью и сам приговариваю: «Не ходи, дрянь. Не ходи». Но жена, бывало, отпихнет меня от себя — и марш в дверь… Вот какая была супротивная. А я человек был тогда принципиально-серьезный.
Прокопочкин поднимал голову от подушек и вкрадчивым голосом, в котором были страх и боль, спрашивал:
— Ананий Андреевич, как думаешь, примет меня, такого, жена или не примет?
— Обязательно, — отвечал я каждый раз из-под одеяла и не открывал лица.
— И я так думаю, что примет, — подхватывал Прокопочкин. — И бить я больше ее не стану, — добавлял он и умолкал до следующей прогулки.
Прокопочкин перестал рассказывать о жене только тогда, когда мы узнали из его истории болезни, что он холост, и сказали ему об этом. Выслушав нас, он вздохнул, подумал и ответил:
— Неженат. Хотите, чтобы я говорил сказки?
— Пожалуйста, — отозвался Синюков. — С удовольствием будем слушать.
Оказывается, Прокопочкин плел небылицы о жене, которой у него не было, для того только, чтобы развеселить нас, «выгнать из палаты тягостное настроение», навеянное скрипом его искусственной ноги. Прошло несколько дней, и я привык к прогулкам Прокопочкина, к скрипам его протеза. Я больше во время его прогулок не закрывал одеялом лица, лежал на спине и глядел в потолок, прислушиваясь к стонам раненых. Морозов и Первухин — приказчики. Первый служил в Нижнем. Второй — в Москве. Они были ранены легко и очень сожалели об этом: вторично им не хотелось идти на позиции. Морозов возбужденно говорил: