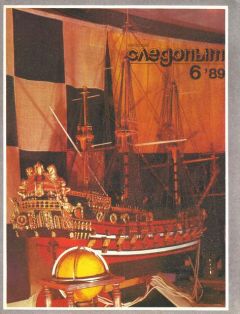Сергей Малашкин - Записки Анания Жмуркина
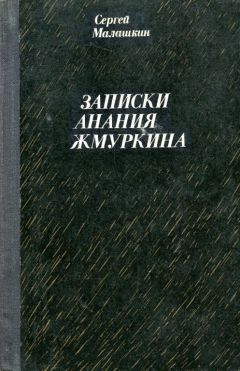
Обзор книги Сергей Малашкин - Записки Анания Жмуркина
Записки Анания Жмуркина
Посвящается Варваре Григорьевне Малашкиной
Часть первая
УЕЗДНОЕ
Склонив голову и держа перед глазами справку, я вышел из канцелярии университета Шанявского в довольно просторный зал.
«Сия справка выдана слушателю историко-философского факультета…»
— Постой! Постой! Что у тебя за цидулька? — оборвал хриповато-приглушенный голос.
— Ананий, а для чего она тебе? — спросил Филипп Шипиленко и ткнул пальцем в четвертушку бумаги, которую я еще не успел спрятать.
— На всякий случай. Думаю, пригодится. Я все же окончил, как ты знаешь, третий курс…
— Мне ли не знать! Вместе три года тому назад подавали заявления. Но этот храм науки, к сожалению, не дает никаких юридических прав бывшим его студентам.
— Права — не так важно. В этом храме мы слушали лекции лучших профессоров страны, выгнанных правительством из государственных университетов.
— Министр Кассо, по-твоему, помог нам быть слушателями этих профессоров?
— Как бы там ни было, мы приобрели все же серьезные знания.
Шипиленко ничего не возразил и, подумав, сейчас же перешел на другую тему:
— Я узнал от Гриши Безрукого, что ты выклянчил у Чичкина пять тысяч рублей для партии. Так это? — И его глаза потемнели, сверкнули и впились мне в лицо.
Я ответил не сразу. Помолчал, поглядел на его прямую, сухощавую фигуру, обтянутую зеленоватой тужуркой и такого же цвета узкими брюками, и на улыбающуюся физиономию с челкой на лбу. Тужурка и брюки были до того заношены и засалены, что казались стеклянными. Говорил Шипиленко немножко нараспев, скупо и книжно, а главное — чтобы сказать фразу, он тщательно составлял ее из таких слов, которые настораживали слушателя, заставляли его поверить в то, что он действительно имеет дело с ученым человеком, а не просто со студентом. После каждой фразы Шипиленко поджимал губы и, умно и загадочно улыбаясь, пристально смотрел в лицо слушателя и ждал, что он ему ответит и как ответит.
— Я не «клянчил» денег у Чичкина, а просил… Чичкин дал в этот раз, как почувствовал я, с нескрываемой неохотой, сказав: «Я не денежный мешок для партий. Месяц назад просили меньшевики. А совсем-совсем недавно эсеры»…
— Что сказал Чичкин, меня не интересует, — оборвал резко Филипп. — А вот деньги — да! Скажи, сколько дал?
— Чек на пять тысяч.
— Дело! — сбирая складки на лбу, воскликнул Шипиленко. — Вот из этой суммы и одолжи! Признаюсь, нахожусь в бедственном положении. Когда у меня в карманах гуляет ветер, я чувствую себя бескрылым. А ведь я по темпераменту — орел. Ты это знаешь! — Заметив недоверчивую улыбку на моем лице, поправился: — Если не орел, то сокол!
Шипиленко взял меня под руку, подвел к открытому окну, в которое врывался грохот пролеток, грузовиков, шум пестрой толпы.
— Получать по чеку сам будешь?
— Как бы шпики не задержали с деньгами. За мной, как замечаю, следят… За себя я, конечно, не так боюсь, но за деньги — очень: в комитете касса пуста.
— Не бойся иди! Такой бороде, как у тебя, позавидовал бы замоскворецкий купчина. Ничего, Ананий! Шагай смело в банк и получай. Костюм на тебе аристократический, такого я не видел ни разу на твоих плечах.
— Пришлось разориться на него.
— В таком костюме, — продолжал Шипиленко, — сойдешь за купца, хватившего европейской культуры. Купечество российское поднимается, как тесто на дрожжах.
— И порывается к власти.
— Черт с ним! Я уже тебе, Ананий, деликатно намекнул, что я, твой друг, нахожусь в трудном положении, в таком же, в каком был Данте в преисподней. Так вот, предстань предо мной Вергилием: отшиби сотенку из денег Чичкина. Такая сумма помогла бы мне вылезти из ада.
— И без Вергилия?
Филипп пропустил мимо ушей мой вопрос. Не замечая поскучневшего лица моего, веря, что я не откажу ему — спасу его от гибели, Филипп вырос, расцвел; озираясь по сторонам, на студентов, прохаживающихся по просторному, ослепительно-белому залу, таинственно сообщил:
— Вчера балерина Г. была у меня, танцевала в костюме Евы, а я, созерцая ее божественные движения, создал «Соломею». — Он смущенно потупил глаза, заворковал:
Как лань, легка,
Стройна, как Соломея,
Тебя века
Я ждал, надежды не имея.
Подошел Игнат Лухманов, протянул руку. Здороваясь с ним, я не расслышал две-три строфы стихов из «Соломеи». Автор стоял боком к Лухманову и, увлекшись декламацией, не заметил его. Лухманов, бросив взгляд на узкую спину Шипиленко, отошел от меня и, прислушиваясь к его голосу, стал смотреть на книги в застекленном шкафу. Филипп продолжал, наклонившись ко мне:
А мрамор гордого крутого лба
Пылает мыслью, как зарей стремнина,
В провалах мозга оргия и месса,
То Нина,
Смуглый сфинкс и поэтесса.
Лухманов фыркнул, затем кашлянул. Шипиленко вздрогнул, замолчал и обернулся к Лухманову, сердито спросил:
— Откуда ты? Давно, Игнат, здесь?
Лухманов молча повел полными, рыхлыми плечами и, ничего не ответив Шипиленко, с подчеркнутым равнодушием улыбнулся и отошел к весело разговаривавшим девушкам. Автор «Соломеи» хмуро, свысока глядел вслед ему и, не отводя от него взгляда, с испугом в близоруких глазах бросил:
— Украдет.
— Что украдет?
— Тему, — ответил Шипиленко, принял прежнюю позу и стал продолжать, но уже тихо.
Я молчал и думал не о стихах Филиппа, а о странной просьбе его. Я знал, что с квартиры он съехал не просто из-за какого-то неудобства, а по причине довольно щекотливой. Он снимал комнату у пожилой женщины, и женщина была довольна тихим жильцом, бедным студентом. Довольна была она до тех пор, пока не застала свою дочь у него в постели. Скандал вышел невероятный. Женщина потребовала от поэта «прикрыть грех», и поэт, видя скалку в ее руках, дал ей слово, что он женится на ее дочери. Женщина успокоилась, а поэт в тот же вечер, как только она отлучилась из квартиры, связал пачку книг (больше у него ничего не было) в байковое одеяло и сбежал. «Где же Филипп сейчас проживает? — подумал я. — Неужели между небом и землею? Нет, я все же его «Вергилием» не буду». Видя, что я не слушаю «Соломею», а задумался, Шипиленко уверенно сказал:
— Знаю, дашь! Вот спасибо. Не забуду тебя, Ананий, до гроба.
— Не проси, Филипп, не дам!
Шипиленко удивленно, словно из рук выпорхнула жар-птица, вылупил на меня глаза.
— Не имею права, — продолжал я. — Поговори с Игнатом. Он за старшего у студентов, выгружающих дрова и уголь из вагонов. Он возьмет и тебя… Они отлично зарабатывают.
— Я же поэт, а не грузчик! — придя в себя, ответил вспыльчиво Филипп.
— И Лухманов поэт.
— А ты, Ананий, считаешь его поэтом?
— А почему бы и нет? Он пишет довольно приличные стихи, такие же, какие и Алеша Ивин.
— У твоего Лухманова вот тут, — Шипиленко поднял палец, согнул его и постучал по лбу, — под черепком не мозги — труха. Тоже увидел поэта в нем! Как же мне быть, если не дашь денег? Тогда дай из своих. У тебя, Ананий, как знаю я, не одна сотня на книжке.
— Не дам, — ответил я спокойно и пояснил: — Не подумай, что жалко. А потому, что это будет тебе во вред: еще больше обленишься. На фронт тебя из-за плохого зрения не взяли… а работать — дрова и уголь выгружать — вполне можешь.
Шипиленко, закрыв нижней губой верхнюю, насупился.
Я протянул руку, сказал:
— Не сердись. До свиданья.
Он брезгливо и оскорбленно, не снимая нижней губы с верхней, смерил меня взглядом и, отвернувшись, стремительно, легкой походкой вышел из зала.
IIЯ получил в этот же день по чеку деньги в банке; получил благополучно: не заметил ни одного шпика. Вечером отнес их по известному мне адресу и передал молодой, скромно одетой женщине (теперь, когда пишутся записки, можно назвать ее имя и фамилию, — это была Софья Николаевна Смидович). Я вернулся в свое жилище, что находилось на Большой Никитской. Войдя в полуподвальную комнату с двумя окнами во двор, слабо освещенный газовым фонарем, я задержался у порога: Влас Капитонович Тютин находился в гневе; вернее, чем-то был ужасно напуган. Увидев меня, он, как ужаленный каким-то гадом, подпрыгнул, вытаращив глаза, замер, затем дребезжащим тенорком завопил:
— Съезжаю! Не желаю жить с тобой! Ты ведешь себя так, что и меня, здравомыслящего патриота, посадят в Бутырки, за решетку! — Он захлебнулся визгом и, маленький, кругленький, в синем с красными искорками костюме и в крахмальной сорочке, вихрем пронесся по крошечному помещению, задевая желтыми ботинками за венские стулья и ящики с карамелью (он от какой-то кондитерской фабрики в свободное время от основной службы вояжерствовал — разносил карамель по бакалейным лавчонкам и на этом деле малость подрабатывал). Его черные усы на круглом сизоватом лице смешно, по-тараканьи, топорщились; небольшая лысина матово поблескивала в его смоляных волосах, вьющихся на висках и затылке.