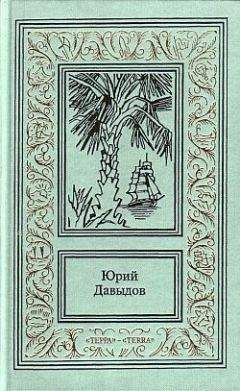Григорий Кобяков - Кони пьют из Керулена
К полудню солнце начало так поджаривать, что голубое небо поблекло. Стали появляться миражи, которые у меня, давно отвыкшего от этих чудес природы, вызывали странное ощущение. Видишь: дальний холм с легкостью пушинки отделился от земли и поплыл, качаясь на голубых упругих воздушных волнах. Подъезжаешь ближе, холм — сплошная каменная глыба — аккуратно садится на место. А то вдруг видишь речку или озеро. Потом все исчезает.
— Хочу пить, — сказал я.
Вода, взятая нами в Керулене, нагрелась и не утоляла жажды. К тому же ее надо было беречь для машины, которая то и дело начинала самоварить.
Алтан-Цэцэг сделала знак шоферу, и тот свернул с дороги. Сразу за «плавающим» холмом оказались юрты — стоянка чабанов.
Подъехали к крайней.
Гостеприимная хозяйка напоила зеленым чаем и сразу исчезла жажда.
— Халхин-Гол далеко? — спросил я хозяйку, когда Алтан-Цэцэг сидела уже в машине, поджидая меня.
Хозяйка посмотрела на наш газик-вездеход и ответила:
— Близко.
Ответила истинно по-монгольски: конь добрый — близко, конь худой — далеко. Но «близко» — я по опыту знал — понятие условное, оно только новичка может ввести в заблуждение, И сотня, и две километров здесь — не расстояние.
«А вот для пеших, — подумал я о солдатской службе, — это было расстояние. Да еще какое!»
Алтан-Цэцэг словно догадалась о моей мысли. Как только машина тронулась, она спросила:
— Вы помните наш неоконченный разговор?
— Помню, — неуверенно ответил я, лихорадочно роясь в мыслях.
— О дорогах Максима, — помогла Алтан-Цэцэг.
Я глазами показал на шофера, как бы спрашивая: «А удобно ли вести разговор при постороннем человеке?»
— Ничего, он — один из немногих, кто не знает русского языка.
После краткосрочных курсов Максиму присвоили звание младшего лейтенанта и назначили командиром взвода управления в одной из батарей. Потянулись напряженные дни, заполненные тренировкой орудийных расчетов. Вскоре, однако, Максим уехал на фронт. Где воевал, на каких направлениях — все скрывала полевая почта. Был только номер почты, откуда шли предельно краткие, как боевые донесения, письма Максима. В каждом письме-донесении совет и наказ: «Не жалейте времени на учебу. На фронте учиться будет поздно».
Только летом сорок второго он написал чуть подробнее и почти указал адрес. «Здесь такие же жаркие, как на родине у Катюши, степи, и так же горько пахнет полынью. Война продолжается, нам снова приходится отходить, но деремся отчаянно».
Рубеж, за который дрались, зашифровал очень прозрачно. «Встретил здесь своих бывших однополчан — Данилу, Олега, Николая» — по первым буквам Дон. Далее сообщал, что в тяжелых боях за высоту «Н» и с ним случилась беда: в один и тот же день, в один и тот же раз совершил и подвиг и преступление.
Батарея, которой командовал Максим, оказалась отрезанной от своих войск, попала в окружение. Но она продолжала сражаться. Немцы дважды бросали самолеты, однако, не досчитавшись двух «лапотников» — пикирующих бомбардировщиков Ю—87 — налеты прекратили. Была отбита и танковая атака. На поле боя запылали три свечи.
На батарее кончились боеприпасы и, не находя другого выхода, Максим приказал подорвать уцелевшие пушки, разбить приборы и прорываться к своим. Ночью повел батарейцев на прорыв. Это был яростный штыковой и гранатный бой. Патроны у Максима кончились. Перехватив винтовку за ствол, он орудовал ею, как палицей.
Прорыв удался. Максима вызвал командир корпуса.
Уважающий дерзкую отвагу, генерал, ни слова не говоря, снял со своей груди орден Красной Звезды и привинтил к гимнастерке Максима. И сказал:
— Ты, пожалуй, не Соколенок теперь, а настоящий Сокол. Хвалю за доблесть и мужество.
Но тут же посуровел:
— За потерю пушек накажу, как за преступление.
— Но…
— Никаких «но». Приказ Сталина — «Ни шагу назад» — знаешь? Ставил подпись под ним? Пойдешь командиром взвода управления до получения новой материальной части…
Погиб Максим командиром батареи глубокой осенью сорок второго в Сталинграде. Батарея оказалась в боевых порядках пехоты. Кроме воздушных атак, приходилось отбивать танковые. Максим Соколенок не умел и не хотел «кланяться» вражеским снарядам. И однажды, когда возле батарейного командного пункта разорвалась мина, разведчики, прибористы и дальномерщики увидели, как их командир медленно опускается на землю…
Алтан-Цэцэг выслушала мой рассказ о Максиме спокойно: годы, видимо, приглушили боль, залечили ее. Недаром же говорят, что время лучший лекарь. Когда я сказал о том, что Максим погиб в Сталинграде, мне показалось, что по ее лицу скользнула тень удовлетворения, что ли. Меня это покоробило.
— Не огорчайтесь, — тихо сказала Алтан-Цэцэг, до сих пор я не была убеждена, что Максим погиб в Сталинграде, только лишь предполагала. Теперь я… спокойна.
Я пожал плечами.
— Не огорчайтесь, — снова повторила Алтан-Цэцэг, — и простите меня… Не о том говорю… Мы с сыном давно собираемся съездить в тот город на Волге, чтобы поклониться праху Максима. Исполнить долг памяти… И поэтому надо было знать точно…
Мы надолго замолчали. Каждый думал о своем. Я смотрел на бегущую под колесами дорогу, на степь. Под колесами монотонно шуршала щебенка. В открытые боковые окна били упругие струи все еще не остывающего воздуха. Хотя день начинал клониться к вечеру, в машине по-прежнему было жарко. Резко пахло железом, горючим, полевыми травами.
Услышал глубокий и протяжный вздох. Обернулся. Увидел сомкнутые ресницы Алтан-Цэцэг: мою спутницу сморила жара и дорожная усталость. Сильно качнуло машину не то выбоина на дороге попалась, не то за-несло на повороте. Вместе с машиной качнулась и Алтан-Цэцэг. Но она не проснулась. Только вздрогнули длинные ресницы, и голова ее упала на мое плечо. Приоткрыв припухшие губы, как это случается со спящими детьми, Алтан-Цэцэг ровно и спокойно задышала. Шофер показал мне знаком: «Вы тоже вздремните».
Машина, пофыркивая, как усталая лошадь, катилась по, желтой дороге. Мне ни спать, ни дремать не хотелось. Я поглядывал то вперед, боясь пропустить что-нибудь интересное для себя, то в боковые окна на равнину, залитую предвечерним синеватым светом. В голову лезли воспоминания.
Скоро стали зажигаться крупные степные звезды. Шофер включил фары. Свет их бил далеко вперед, высвечивая свой путь.
В стороне от дороги тракторы, похожие на больших черных жуков, распахивали вековечную целину. И сейчас, глубоким вечером, механизаторы не прекращали работы. А совсем еще недавно монголы, не занимались хлебопашеством.
На Халхин-Гол приехали поздно. Густая темень не давала возможности разглядеть поселок, который был Центральной усадьбой сельскохозяйственного объединения «Дружба» и в котором размещался участок Халхингольской научной сельскохозяйственной станции. Здесь меня ждала уютная комната в маленькой гостинице, а Алтан-Цэцэг — ее квартира.
Основные учреждения научной станции, научные работники ее, завершив здесь цикл экспериментальных и опытнических работ, с половины шестидесятых годов стали перебираться выше по долине Халхин-Гола, на Хамардабу, которая стала главной базой. В поселке же оставалась лишь небольшая часть хозяйства — плодовый сад, опытный участок под зерновые культуры и ферма высокопородного крупного рогатого скота. Осталась и часть. научных работников. Среди них — Алтан-Цэцэг.
После окончания университета Алтан-Цэцэг предлагали остаться при кафедре. Особенно усердно за нее хлопотал декан кафедры, один из немногих в до время кандидатов наук. Выпускник Тимирязевской академии и ее аспирант, человек, увлеченный наукой до одержимости, он приметил в этой красивой, вдумчивой и способной студентке умение систематизировать явления и находить связи между ними, умение логически мыслить, сопоставлять факты, обобщать, экспериментировать.
— Дорогая Алтан, у вас научное мышление и призвание исследователя.
— Вы правы, дарга Шагдасурэн, — с усмешкой отвечала Алтан-Цэцэг, — еще в детстве я допытывалась у бабушки, почему, скажем, растет трава, почему верблюжью колючку не едят коровы и овцы, и страшно огорчалась, когда не получала «научных» ответов на свои — вопросы.
— На бритом и тощем лице Шагдасурэна выступали красные пятна. Он снимал очки и, смыкая створочки глаз, недоуменно спрашивал: — Вы смеетесь, Алтан-Цэцэг?
— Нет, не смеюсь, дарга Шагдасурэн, — оставляя шутливый тон, отвечала Алтан-Цэцэг. — Мне приятно от вас слышать о научном мышлении и призвании исследователя, только готовилась я к практической работе. К тому же у меня нет ни педагогических знаний, ни способностей. А без этого…
— Русские говорят, — не давая досказать, перебил Шагдасурэн, — не боги горшки обжигают.