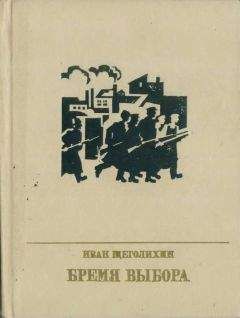Иван Щеголихин - Дефицит
Пошел в кинотеатр «Сары-Арка», встал в очередь за билетами, кругом молодежь, он прятал глаза в газету, как Чинибеков, хотя стояли не только молодые, впереди него пара лет по сорока, мужчина в вельветовом пиджаке с блекло-зеленоватым отливом, с круглой плешью на темени и с самоуверенным лицом приезжего, на комбинат часто командируют из главка, из министерства, да и центральная пресса не обходит его вниманием. В Москве легко отличить приезжих от столичных — по их неуверенности и пристальному ко всему вниманию; в провинции тоже легко отличить столичных от местных — по их уверенности и полному пренебрежению к окружающим. Рядом с вельветовым стояла молодая хрупкая женщина с сумкой на ремне, явно местная, с постоянной, будто приклеенной улыбкой, не женской, вымученной, этикетной. Ответственный, видать, товарищ, и она от него зависит. Малышев от нечего делать не только замечал больше, но и больше брюзжал. Бывает, приедет сюда москвич, неделю водишь, возишь его туда-сюда, выпьешь-закусишь не один раз, другом он тебе станет закадычным, а приедешь через полгода в Москву, зайдешь к нему в кабинет — не узнает. И не прикидывается слабым на голову, нет, он и в самом деле тебя забыл, кто ты и откуда. Ты его в тысячной толпе разглядишь, а он тебя в упор не видит, — в чем тут дело? Наверное, в том, что ты ему не нужен, — провинция. Он тебе тоже, в общем-то, не так уж и нужен, но — столица, некая магия, неосознанная зависимость.
Шел фильм «Троих надо убрать», французский, в главной роли Ален Делон, в годах уже, но все еще, а может и более прежнего, симпатичный, обаятельный. В итальянском кино, на взгляд Малышева, все мужчины так себе, больше ерники, хотя в прошлом римляне и красавцы, воины и мудрецы, — выродились, вероятно, хотя хвалят их не нахвалятся, а вот во французском кино все мужчины поголовно отменные — и Жан Габен, и Жан Марэ, и Бельмондо, и Ален Делон.
Расселись, Малышеву неловко сидеть среди бела дня, кто-то пропадает, истекает кровью, с жизнью, может быть, прощается, а он в кино сидит сложа руки. Глупо так думать, суетно, тем не менее ощущение такое у него есть. Вспомнил, как однажды в театре — приезжал на гастроли московский «Современник» — сидели они втроем, он, жена и дочь, шел спектакль и вдруг занавес посреди действия, выходит администратор и — «Хирург Малышев Сергей Иванович, вас просят срочно в больницу, машина у подъезда. Хирург Малышев?» В зале включили свет, он поднялся и быстро пошел к выходу. Марина и Катерина — за ним, как будто они втроем оперируют. Кто-то захлопал, потом еще и еще, из зала он вышел под дружные аплодисменты, как футболист после красивого гола. Но зачем нужно было вставать Марине и Катерине? Показательно…
Вельветовый с плешью и дама с улыбкой оказались рядом, свет, наконец, погас, Малышев, довольный тем, что в темноте растворился, вытянул ноги под переднее сиденье и предался разврату. Сразу же интригующее начало — военный самолет, солдаты подвешивают ракеты, выстрел, огненный шар летит, но не прямо, как ему положено, не как снаряд из пушки, а ломаной кривой, хищно преследуя самолет, лавируя вслед за ним, самолет в сторону и шар в сторону, и по настигающей, — черт знает что, неужели есть такие ракеты? Как стервятник за жалким кроликом, — и догнал! Взрыв, огонь, черный клуб дыма и кувырком обломки. Потом появились люди, дельцы, воротилы, негодяи, как водится, всех мастей, убийцы, и Ален Делон начинает с ними борьбу за справедливость — преследования, стрельба, Париж, Трувиль, непохожие на наши автомобили, непохожие на наши квартиры, — все цветное и незнакомое, как сон, занятно все и, надо сказать, убедительно. Малышев увлекся, забылся, и все было бы отлично, если бы не сосед тот самый, вельветовый. Он то и дело громко гмыкал и лающе посмеивался, показывая свою реакцию спутнице, дескать, какая чушь, какой наив, стреляют, убивают, пугают, а ему не страшно, ему смешно, ибо у него хороший вкус. Что ни выстрел, то рядом смешок ернический.
— Не мешайте смотреть! — внятно сказал ему Малышев.
— Да тут и смотреть нечего, — вполголоса, интеллигентно оправдался плешивый.
— Тогда уходите отсюда! — Малышев даже ноги подобрал, дорогу ему освободил. Тот гмыкнул и глянул на спутницу, ища поддержки, она смотрела на экран, улыбка ее стала еще более терпящей. На голоса обернулись девицы впереди, призвали к порядку, можно спокойно смотреть дальше, но плешивый не унимался, теперь он изводил Малышева молча, одними жестами, то вперед подастся, то назад откинется, то рукой этак выразительно поведет, то вздохнет надсадно, всеми телодвижениями словно бы вопрошая: ну не чушь ли, не глупость ли несусветная?! Малышев терпел, не станешь же соседа связывать по рукам по ногам, терпел, крепился, и когда Ален Делон схватил рыжего злодея за волосы и выбил тому мозги выстрелом, Малышеву очень захотелось, чтобы следующим выстрелом он продырявил интеллектуальную плешь соседу, — не пожалел бы ничуть! Но Алену Делону было не до плешивого, ему самому грозили крупные неприятности, и у Малышева оставалась одна надежда — на спутницу, вот-вот она уберет свою прокисшую улыбку и врежет соседу между глаз, поскольку Ален Делон ей очень нравится. Кончился фильм, зажегся свет, пошли к выходу сонно и не спеша, без давки, молча, и только вельветовый не унимался, право голоса получил, гнул-догибал свое:
— «Литгазета» уже писала по этой киношке, критиковала за пошлость, бездуховность и вредность, особенно для молодежи, я читал…
Мог бы говорить потише, нет, он вещает на публику, ждет отзыва. «Не читай, дураку грамота вредна», — хотел сказать Малышев, обернулся, спутница того сняла, наконец, улыбку, устала и вот-вот погонит зануду, глянула она на Малышева с опаской — что он выкинет? А он свойски подмигнул ей, хулиган, вертопрах, и на том успокоился.
На улице стало прохладно, время к вечеру, Малышев вздохнул свободнее. Хочешь не хочешь, пришлось отметить, что он стал ко всему цепляться. Застревает в конфликтной ситуации, либо сам же ее создает. Возраст? Ерунда, оптимальный у него возраст, в сорок пять как раз все должно быть в ажуре, юношеские порывы укрощены, а старческая дряхлость еще не брезжит, самая середина золотая, ничем не отягощенная. Полагалось бы ему равновесие, а его нет. Нервозность может быть от гипертонии, от многих других причин и ни от чего, просто так. Почему-то все больше стало возникать поводов для недовольства, досады, злости. Куда ни глянь, куда ни кинь, везде что-то не по душе, и не только одному ему, но, кажется, всем другим тоже. Какой-то спад, остывание, обветшание. «Поражает новизна зла», — сказал как-то Телятников. Какая-такая новизна, наоборот, дряхлость зла, застойность. И не поражает, а возмущает всеохватность застоя, одряхление, усталость. И оттого готовность номер один идти на конфликт, дай только повод, а повода и просить не надо, вот он, плешь в вельвете, та искра, которая падает на сухой порох, и новизна тут не обязательна, любая искра годится, старая, новая, хоть от кресала, хоть от лазера. «Надо держаться». Надо-то надо, да вот зачем?..
В поликлинике он прошел мимо зеркала в холле и, не останавливаясь, увидел себя вполне здорового, даже элегантного, почти как Борис Зиновьев, отнюдь не помятого больничным пребыванием, одним словом, такого, каким ему хотелось предстать сейчас перед Аллой Павловной. Возле ее кабинета пустые стулья, он приоткрыл дверь — она сидела за столом в халате, без колпака, перед кипой амбулаторных карт, озабоченно что-то писала.
— А я уже хотела вам домой звонить. Как давление? — И взялась за тонометр.
Он снял пиджак, видя себя снизу, с ее точки зрения, рослый здоровый мужчина в хорошей сорочке, в обтянутых брюках (а ведь раньше было наплевать на одежду), отстегнул запонку, чуть помедлил и… снова застегнул. Надел пиджак и сел за стол перед Аллой Павловной, не на стул для пациентов, а на место сестры перед картонным ящиком с диспансерными карточками.
— Хватит прикидываться, давление у меня нормальное, разве не видите?
— Совсем измерять не будете? — звонко спросила она, как будто даже обрадованная его шалостью.
— Совсем не буду, всю оставшуюся жизнь.
Она повертела шариковую ручку в пальцах, с тупого конца на острый и обратно, заполняя таким движением паузу, спросила:
— А что мне записать?
— Запишите сто двадцать на восемьдесят. Или, если вы такая добросовестная, пишите, что пациент отказался измерять давление да еще, нахал, грубиян, намерен говорить врачу комплименты.
Она повела бровью, дескать, послушаем, что за комплименты, что-то все-таки записала, а он смотрел на ее лицо, молодое, ему казалось, лицо, лет восемнадцать ей, а ему двадцать три, как тогда, много лет назад, так много, что… целая жизнь прошла. Где она жила эти годы? Двое детей уже, а осталась такой же. Темный румянец, губы четкие, пушистые брови, вся какая-то цельная, собранная на своих дочерях да на своей загадочной терапии.