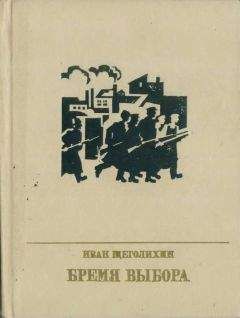Иван Щеголихин - Дефицит
Алла Павловна могла бы и позвонить, справиться, как там ее пациент. Она поставила бы ему пятерку за поведение. Перед стрессом он незыблем как скала.
А патроны лучше бы зарядить солью.
Ладно, хватит дурить, хватит курить, пора выходить из дома. Надел белую сорочку, галстук в полоску, самый эффектный свой синий костюм, черные туфли — пижон пижоном, будто из отпуска возвращается, из загранпоездки. Между жизнью и смертью тоже граница, между прочим, оттуда он и приехал.
Вот и его больница. Малышев присмотрелся, сравнивая ее с областной — двор поменьше, пыльный газон, желтая листва скопилась в сухом арыке, и фонтана нет, в общем, труба пониже, дым пожиже. Надо взбодрить Керееву на воскресник по благоустройству, деревья подбелить, клумбы почистить.
Он вошел в свое отделение, по-хозяйски распахнув двери, в ожидании радостной встречи с персоналом, и едва переступил порог, как перед ним словно из-под земли возник худой, тощий старик в одном нижнем белье.
— Куда без халата?! — с ненавистью, злобно сказал он Малышеву.
— Сейчас надену. — Малышев с усмешкой попытался обойти старика.
— А я тебе говорю, куда! — вскричал больной. — Здесь хирургия, без халата нельзя! — С маниакальной настырностью он встал перед Малышевым и даже руки растопырил, будто курицу собрался ловить, лицо серое, все из морщин и складок. — Заразу тут разносят всякие, понимаешь ли!
Появился на шум другой больной, подобострастно поздоровался с Малышевым, потянул старика за рукав и, когда Малышев прошел, за спиной его пошло объяснение — ты на кого напал? и прочее, но старик, не сдаваясь, продолжал вопрошать: «Ну и что?.. Тем паче», — раза три повторил свою «пачу». Очень похож на Витю-дворника, но чем, сразу не скажешь, — слепой озлобленностью, что ли, какой-то личной ненавистью, будто Малышев корову у него увел или хату его спалил. Непонятно и, тем паче, необъяснимо, чего набросился? Или у Малышева такой уж здоровый вид, что можно на него орать, кому вздумается? Не подпускать к больнице «тем паче»? Шир-рокая демократия. Слабода слова. И вразумить нельзя. Без лечения его не выдворишь, прогрессивки — тем паче — не лишишь, ни с какого боку хама не урезонишь, одна для него подходящая мера — порка на конюшне, так ведь упразднили давно.
Быстро, почти бегом направилась к нему дежурная сестра Наташа, приглушенно, зная, что Малышев не любит в коридоре шума, сказала:
— Здра-авствуйте, Сергей Иванович, с выходом вас!
Он хотел было сразу пройти в ординаторскую, но передумал, надо успокоиться прежде, а то сорвет зло на ком-нибудь из-за пустяка. Попросил сестру открыть его кабинет, она сбегала за ключом.
— Кто этот старик, интересно, в первой палате, без меня поступил? Дворник?
— Почему дворник? — Наташа улыбнулась, как шутке. — На комбинате работает, Филимонов, с опухолью. А кем работает, я сейчас посмотрю.
— Потом, Наташа, не срочно.
Сестра ушла, он сел за стол, ощутил пульс в виске. Хамло, черт возьми, и ведь прав, нельзя без халата, но что за манера? Делает замечание, притом справедливое, но таким вонючим тоном, что сначала хочется ему в рожу плюнуть, а потом уже принять к сведению. Вцепился аки пес в онучу — за что?
Увидел чистый халат на плечиках, накрахмаленный колпак — его здесь ждут. Посмотрел на рыбок в аквариуме — чистая вода, следят. На столе порядок, молодцы, спасибо. Возле аквариума «живое дерево» в аккуратном бочонке, на стене портреты Пирогова, Склифосовского, Бурденко. Так было в кабинете профессора, его учителя, — и аквариум, и корифеи, и еще полка позади стола с книгами, с хирургическим атласом и журналами. Хорошо у него здесь, все под рукой — пепельница хрустальная, календарь, авторучки, фонендоскоп. Уютно, прохладно, чисто. Только вот муха пленная на окне жужжит. Он открыл окно. Закурил, постоял…
А ведь мог бы и не вернуться сюда. Могли бы уже девять дней справить. И уже кого-то искали бы на твое место. Сам ты о замене не позаботился, не видел нужды. А теперь? Однако вернулся — и хватит.
Хорошо, что пришла Данилова. Дело не в самом факте, а в том, что она оказалась лучше, чем ему думалось. Примирение его радует, хотя опять же не в примирении дело. Истина, говорят, познается в борьбе, в противоречиях, но почему не в дружеском согласии? Не хватит ли ему борьбы и противоречий? Важно правильно думать о людях, оценивать их без предвзятости. Человека без репутации не бывает. Ты сам в числе прочих создаешь ее, иногда опрометчиво.
Муха исчезла, в аквариуме плеснулась рыбка, словно приветствуя хозяина. Плохое все-таки слово «хозяин». Однако так говорят, собственническая лексика почему-то неистребима. Он здесь обитатель, как рыбка в аквариуме, только не сознает, что находится под надзором — будущее следит за ним, глаза судьбы, и забавным выглядит его смятение от мелочей.
Надел халат, отутюженный, жестковатый и окончательно вернулся к себе, в среду обитания, хотя серый привратник и не хотел его впускать сюда. Неспроста, можно и так подумать. Но он без суеверий. Завтра сразу же операция Леве Киму. Непременно. Обязательно!
И незачем так настойчиво заверять себя, словно к небесам обращаешься за поддержкой. Будто ты в себе не очень уверен. Будто тебя не пустят сюда. Да кто не пустит, что?..
Прислушался к отделению — ни суеты, ни беготни, ни паники в связи с его появлением. Либо всегда готовы встретить грозного шефа, либо вообще решили больше его не встречать.
К Леве Киму зашли вместе с Юрой Григоренко, Лева обрадовался, встал с койки, руки по швам, как солдатик. Он заметно сдал, жалко Малышеву, две недели отсрочки сказались на состоянии Левы, оперировать будет труднее, особенно анестезиологам.
— Как у вас, Сергей Иванович, полный порядок? — Лева улыбается, не верит, что доктор болен, просто так, срочная командировка.
— Порядок, Лева, полный порядок. Врачи заставили принять курс, пришлось подчиниться.
— Значит, завтра? Откроем, посмотрим?
— Завтра, Лева, с утра. Хорошо и спокойно, ты ничего не заметишь.
Лева верит Малышеву, Лева радуется, чему? Тому, что завтра сделают его инвалидом, без одного легкого? Нет, тому, что спасут его от болезни, от больницы, от вздохов родителей.
Когда Малышев вернулся к себе в кабинет, вошла Наташа и сказала, что Филимонов, тот самый, о котором Малышев уже забыл, работает счетоводом-кассиром. Все правильно, он тоже при власти, два раза в месяц садится он в свой дзот и выстреливает из амбразуры то одним хамским словом, то другим, будто зарплату выдает из своего кармана. Удивительная у кассиров манера грубить, прямо-таки профессиональная. Как у жуликов вежливость.
Скоро четыре, пора направить стопы к лечащему врачу, но прежде надо зайти за цветами. Пошел по городу праздный в рабочее время, будто в отпуске. Неожиданно много людей на улице, они что, тоже все на больничном? Впрочем, август — время летних отпусков. Цветами торгуют возле кинотеатра, по пути. Какие взять? Самый сезон, выбирай на свой вкус, а вкус-то и подкачал. Куст бурьяна на старой стене, травка между бетонными плитами на дорожке Малышеву милее, беззащитны они, непритязательны, в цветах же много претензии, вызова. Яркость, чрезмерность, показуха скромного лика земли, некое пижонство флоры. Бульдонежи — это сокращенные бульдожьи нежности. Он не любит цветы — мужик, а она, наверное, любит, и цветам от него обрадуется. Малышев представил, как понесет ей пышный букет через всю поликлинику мимо страждущих, стонущих, ожидающих, в кабинет к ней наверняка очередь, и он будет сидеть с букетом, как дурень со ступой, — нет, так не пойдет, не для него такая процедура. Он подарит ей не цветы, а колечко, да-да, колечко, и не пошло золотое, а скромно серебряное, Данилова ему подсказала в своем отчете о конгрессе в Москве. И направился в галантерею.
— А какой размер? — спросила продавщица в платье с кружевным воротничком, как школьница.
Вон как, у них еще и размеры есть.
— Примерно, как на вашем пальце.
— Семнадцать с половиной — восемнадцать.
Он выбрал колечко с голубым камнем — под цвет глаз. А может быть, надо под цвет платья? Или под цвет волос? Нет, раз уж он выбрал такое, пусть она подгоняет все остальное под его цвет.
— Какой это камень?
— Бирюза.
Прекрасно, и коробочка ему понравилась, этакий сельский домик под соломенной крышей. Он вручит ей колечко и скажет, чтобы она не снимала его ни дома, ни на работе, ни в гостях. Посмотрел на часы — половина пятого, сейчас у нее разгар приема, придется ждать очереди, а потом в кабинете даже и не поговоришь, торопит очередь в коридоре. Надо иначе, он придет к самому концу, к семи часам, последним пациентом, а до семи… Чокнуться можно за два с лишним часа ничегонеделания. Инфаркты, кризы, раки бывают не только от напряжения, от непосильного ритма гонки, но и от непосильной скуки.
Пошел в кинотеатр «Сары-Арка», встал в очередь за билетами, кругом молодежь, он прятал глаза в газету, как Чинибеков, хотя стояли не только молодые, впереди него пара лет по сорока, мужчина в вельветовом пиджаке с блекло-зеленоватым отливом, с круглой плешью на темени и с самоуверенным лицом приезжего, на комбинат часто командируют из главка, из министерства, да и центральная пресса не обходит его вниманием. В Москве легко отличить приезжих от столичных — по их неуверенности и пристальному ко всему вниманию; в провинции тоже легко отличить столичных от местных — по их уверенности и полному пренебрежению к окружающим. Рядом с вельветовым стояла молодая хрупкая женщина с сумкой на ремне, явно местная, с постоянной, будто приклеенной улыбкой, не женской, вымученной, этикетной. Ответственный, видать, товарищ, и она от него зависит. Малышев от нечего делать не только замечал больше, но и больше брюзжал. Бывает, приедет сюда москвич, неделю водишь, возишь его туда-сюда, выпьешь-закусишь не один раз, другом он тебе станет закадычным, а приедешь через полгода в Москву, зайдешь к нему в кабинет — не узнает. И не прикидывается слабым на голову, нет, он и в самом деле тебя забыл, кто ты и откуда. Ты его в тысячной толпе разглядишь, а он тебя в упор не видит, — в чем тут дело? Наверное, в том, что ты ему не нужен, — провинция. Он тебе тоже, в общем-то, не так уж и нужен, но — столица, некая магия, неосознанная зависимость.