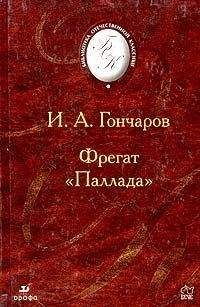Борис Мисюк - Час отплытия
Капитан молчал, локти его легли на подлокотники, пальцы разжались, взгляд он отвел в сторону, куда-то на иллюминатор. И Александр Кириллович не выдержал, пригладил лысину и начал:
— Вы не поверите, наверно, и в то, что Ляпин с бригадой на морозке гонит туфту, за которую вы по трансляции его поздравляете — молодцы, мол, добились высоких результатов. За эти же «результаты» вас с капитаном поздравляет начальник экспедиции. И рвачи ляпинские ликуют. А потом, помяните мои слова, Михаил Романович, придут рекламации на мороженую рыбу, да будет поздно.
Один только раз на протяжении этой тирады помполит коротко взглянул на матроса и сейчас собирался, видно, с мыслями. Но ответить ему не дал капитан.
— Погоди, Саша, не вали «до кучи». Об этом — потом… Не день рождения у меня, а черт знает, что, производственное совещание, — он улыбнулся одними глазами и вновь подался вперед, чуть оторвав локти от кресла. — Давай, Михаил Романыч, с тобой насчет авторитета закончим. Если он у меня есть, то никакой дед и любой другой жулик или пьяница мне его не подорвут. Согласен? А вот если я буду потакать проходимцам, покрывать их, вот тогда-то…
— Все равно, Герман Евгеньич, я не соглашусь. — Помполит сидел прямой, как каменный, и размеренно, точно крупную гальку в воду, вгонял слова. — Я против вынесения этого дела на бюро. Такие вещи решаются в других инстанциях.
Эта размеренность, пожалуй, и вывела капитана из себя.
— Хрен с тобой! — Он рубанул рукой воздух над столом, взял сигарету, затянулся и шумно выпустил дым в подволок. — Я понимаю: ты призван уравновешивать «крутой капитаний нрав», ты — комиссар. Но это не значит, дорогой ты мой комиссар, что ты должен брать под крылышко сволочь. — Снова глубоко затянулся и, внезапно, порывисто скрипнув креслом, оглянулся на часы. — О! Прекрасно! Четыре часа. Сейчас мы задействуем третьего. Его вахта началась.
Александр Кириллович с помполитом, словно из партера, следили за действиями капитана. Он отлично чувствовал внимание «зала» и делал все эффектно: хлопнул ладонями по подлокотникам, решительно, пружиной распрямился, вышел из-за стола, красиво обошел обитое кожей кресло, спортивно прошагал по салону, сел за письменный стол, массивный, отделанный под красное дерево и так идущий к его внушительной фигуре, демонстративно, сверху опустил на телефон руку, взял черную трубку (она так гармонировала с черно-серебряными завитками его могучей гривы) и набрал номер.
— Машина? Третий механик? Капитан говорит… Доброе утро, или добрая ночь, вернее. Скажите мне, вы участвовали, вот недавно, в покраске машинного отделения?..
Третий долго о чем-то говорил ему в трубку, и на лице капитана отразилось нетерпение.
— Нет, мне совсем не это нужно, — мягко, почти вкрадчиво сказал он и тут же сменил тон; — Вы мне ответьте четко и прямо — да или нет. И говорите правду, — в голосе его была та внутренняя сила, что граничит с внушением. — Врать не советую…
И вдруг лицо капитана расслабилось, будто было оно под током, и ток сейчас выключили. Глубокая озерная синева капитанских глаз посветлела.
— Вот, — просто сказал он, — другое дело. — И произнес раздельно, чуть не по слогам, отсутствующим взглядом уставясь на помполита: — Не участвовал в покраске. Ну, что ж, спасибо за правду. Все. Да, о нашем разговоре — пока никому. Договорились? И спокойно несите вахту, работайте. Все.
Капитан положил трубку, встал и, глядя в иллюминатор, в ночь, неожиданно зевнул затяжным, сладким зевком. И стало ясно сразу, как он устал: шли вторые сутки бодрствования, из которых половину заняла борьба с двенадцатибалльным штормом.
Александр Кириллович бережно укладывал в футляр баян, Помполит тоже выбрался из-за стола, потянулся, расправив широкие плечи гимнаста, и сказал:
— Вам тоже надо отдохнуть, товарищ именинник. Спокойной ночи.
— Но тех денег я не брал, — задумчиво сказал капитан, повторяя, очевидно, услышанное в трубке. — Так что, Михал Романыч, ты поосторожнее с третьим, полегче. А я завтра, то есть сегодня уже, сам все проверю у бухгалтеров, и тогда уж решим с тобой, что делать, как жить дальше. Спасибо, хлопцы, что разделили со мной, — он кивнул в сторону стола. — Спасибо, Саша, за песни. Спокойной ночи.
Закончился день рождения. До позднего беринговоморского рассвета еще было далеко. И валко раскачиваясь на якоре, плавбаза колыбелью баюкала рыбаков. Колыбель никогда не ведает обмана и зла, бережет покой и сон. И те, кто вкусил их полной мерой, поутру обретают силы для свершений…
Комиссия по приказу капитан-директора проверит новые партии мороженой рыбы, обнаружит в одной смене брак, ляпинцев лишат половины квартальной премии. Капитан найдет в бухгалтерии «липовые» наряды на третьего механика и Шестернева и даст в отдел кадров обо всем радиограмму с требованием прислать деду замену. Ему ответят так: «Замены в ОК нет. Разберитесь, накажите на месте». И капитан объявит по выговору Шестерке и третьему и «строгий выговор с предупреждением» — стармеху Перепанскому.
XIII
В районе лова — полдень, декабрьский полдень. Мутно-желтым пятаком взошло наконец солнце, отдавшее все силы на то, чтобы справиться с розовыми пеленками. Они долго светились над горизонтом большим треугольным пятном, напоминая оглаженными контурами угасшее полярное сияние. Немощный рассвет оживил все же океан: заблистали сталисто-розовым блеском озерца воды промеж льдин, а сами льдины, только что мертвенно-белые, вдруг стали совершенно голубыми, с чуть-чуть молочным, жемчужным оттенком. В полумиле к норд-осту от борта «Удачи» — кромка, дальше — сплошное поле льда, неровно покрытое снегом, с голубыми, синими и почти черными тенями.
Рыбы мало, и смены работают вполсилы, с развальцей, с обстоятельными перекурами, прихватывая к обеденному часу с обоих концов еще по полчаса. Когда идет большая рыба, она задает цеху высокий темп, и летают в руках обработчиков игрушками тридцатикилограммовые картонные ящики с мороженым балыком, тазы с печенкой, полсталитровые бочки с икрой. Теперь же работа «то потухнет, то погаснет», говорят матросы. И потому задолго до обеда, в желто-розовых сумерках сонного рассвета, сбились они у борта и следят далекую темную точку на чистой воде. Это СРТМ, идущий с берега, из дому. Радисты вчера еще «своим, по секрету» сообщили, что везет он на базу почту — письма, посылки, газеты… И вот сейчас под прицелом десятков нетерпеливых глаз проходят последние кабельтовы его многодневного пути.
— Валюха, ты-то че ждешь? Тебе ж прошлый раз посылка была! — Через десяток голов, нависших над бортом, кричит дородной девахе высокий парень, маячащий над толпой красной шерстяной шапочкой с помпоном, какие обычно на рыбацком флоте делают из рукавов кофт, отрезая их, чтоб не мешали в работе, не мокли, а безрукавки уже поддевая для тепла под робу.
— И все ж то ты помнишь. Цыпа! — вынув изо рта беломорину, зычно отвечает Валюха парню, прозванному Цыпой базовскими девчатами за то, что сам он их всех подряд зовет цыпами. Такие прозвища-бумеранги — самое ходовое дело на флоте.
— А как ему не помнить, когда он, мракобес, в каждый «пузырь» нос засунул, — это говорит стоящий между Цыпой и Валюхой молодой коренастый красавец в огромной курчавой шапке волос.
— Ты приходи, Мракобесик, в гости, я тебе тоже налью, — играя лупастыми глазами, откликается Валюха. — Мне и сейчас посылочка будет — радиограмму получила.
Витос, молча стоящий поодаль, на крышке трюма, откуда тоже прекрасно видно СРТМ, не в силах сдержать улыбки: он вспоминает, как курчавому в столовой вечно то соли в чай насыплют, то перцу в компот, а он добродушно ругается на потеху всем: «Вот мракобесы, опять!»
После обеда огромная, многослойная очередь осадила крошечную каютку напротив столовой. Над дверью с окошечком — надпись «Почта», рядом криво болтается на одном гвозде синий почтовый ящик. Густой гам, шутки, смех висят над толпой. Взрывы возгласов сопровождают каждую посылку, выныривающую из двери и плывущую над головами. Два месяца не было почты.
Витос получает целых три конверта и, прижав их к груди, норовит сделать прицельный рывок, когда из окошка за спиной слышит:
— Отцу возьмешь?
— Конечно! — Он с трудом разворачивается и берет еще два письма. Выбравшись из толчеи, идет к отцу в каюту и по пути рассматривает драгоценные конверты. Два из Рени, от матери, третье из Ростова — Валькин почерк, с наклоном влево, ну а отцу оба письма из Находки, от тети Томы.
Отец с баяном сидит на диване, один в каюте, дядя Антон уже на вахте, он ведь с ревизором стоит, с двенадцати. Баян выводит дивную, незнакомую мелодию, сладкозвучную — без басов: отец подбирает новую песню и, прижав правое ухо к полке «Орфея», вслушивается в звучание высоких тонов. Он сейчас слился с баяном, ушел в звуки и не слышит, не видит сына.