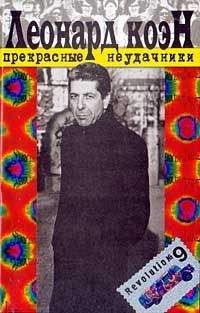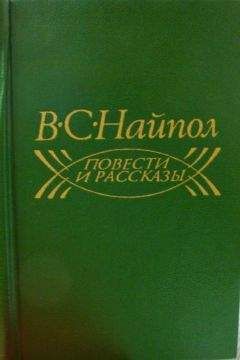Фзнуш Нягу - Властелин дождя
При появлении Раду Стериана Йова, привыкший витийствовать по любому поводу, начал было, как обычно:
— Горе, тяжкое горе, товарищ Стериан. Прошу, приобщайтесь к нему и вы.
— Йова! — упрекнула его жена Фогороша.
— Это прокурор, — пояснил йова. — Фогорош был мне как брат родной, товарищ Стериан. Сделайте так, чтобы и камни оплакивали моего бедного друга.
— Да, — подтвердил Раду, — я уполномочен расследовать обстоятельства, приведшие к несчастному случаю, от которого пострадал ваш муж.
— К чему все это? — устало сказала женщина. — Он помирает. Упал с верхней площадки, головой прямо на цемент, кровь так и хлынула, и через рот, и через нос. Теперь помирает.
— Да может, и не умирает, — сердито вскинулся Йова. — Заладила одно: помирает да помирает, а может, ему еще много дней на роду написано…
— Помирает, — повторила женщина. — Мозги у него все перемешались, помирает.
— Ты то же самое говорила, когда во время ледохода он попал под лед. Целая гора по нему прошла, и ничего, не умер.
— А теперь помрет.
— Его одна смерть уже миновала, и сейчас все обойдется, вот увидишь. Говорю тебе, выкарабкается!
— Доктор сказал, что есть надежда, — солгал Раду.
— Правильно, — подтолкнул его Йова, — ободрите ее.
— Ну, если так, — сказала женщина, неуверенно, но с нотками надежды в голосе, — если, как вы говорите, сами доктора сказали, может, действительно обойдется.
— Да, у него крепкий организм.
— Вот видишь? — воодушевился Йова. — Человек, если он человек, должен высоко держать знамя надежды. Фогорош весь в отца. Старик тоже работал грузчиком в порту, бывало, грузит зерно, а объясняется со всеми по-итальянски. Ужас как его любили иностранцы! Только и слышишь: синьор Фогорош туда, синьор Фогорош сюда, все синьор да синьор. С синьором Фогорошем тоже однажды такой случай вышел. Вытянул он как-то бочонок баварского пива в «Олимпике», взял извозчика и поехал кататься. Возле скотобойни выпал из пролетки, а одна нога зацепилась за подножку. Скотина в кафтане, сидевший на козлах, ничего не заметил и тащил синьора Фогороша волоком по земле, пока не разбил ему весь черепок и не оставил без скальпа. Когда его подняли, старик был трезв и голоден и не прочь начать все сначала с турчаночками из «Аль-Калех»! Другой на его месте порадовал бы попов и отдал богу душу, а этому — ну хоть бы что, прожил потом еще целых десять лет.
— А мой муж помирает, — опять запричитала женщина.
— Да замолчи ты! — прикрикнул на нее Йова. — Ну почему он должен умереть?
— Там целые сгустки крови остались, на цементе, помрет он.
— Замолчи и не напоминай больше о смерти. Если мы все будем думать, что он выздоровеет, он действительно выздоровеет. Вот так. Лучше помоги товарищу прокурору наказать тех, кто виноват, человек за этим пришел. Выведите их на чистую воду, уважаемый товарищ Стериан, а то их послушать — так они там все ни при чем, а у самих даже перил нет на площадках. Покажи бумагу! — приказал он женщине.
Она поднялась и вытащила из коробки для будильника конверт с копией протокола о расследовании причин несчастного случая и показала Раду. Двадцать строчек печатного текста, из которого следовало, что во всем виновато стечение обстоятельств:
«В перилах нет производственной необходимости, сами грузчики никогда не обращались к руководству предприятия с просьбой установить их. С сожалением констатируем, что товарищ Фогорош не проявлял необходимых мер предосторожности, — факт, который подтверждается также тем, что на работе он редко пользовался специальным багром для захвата бревен».
Далее следовала очень сложная и запутанная фраза, в которой выражалось сожаление и все остальное, а под ней — подписи членов комиссии. На том месте, где должна была быть подпись председателя, стояло: Майя Хермезиу.
Раду Стериан побледнел и уставился на Йову.
— Ну? — спросил Йова.
— Эта бумага будет приобщена к делу, — ответил Раду, с трудом сдерживая дрожь в голосе.
— Дело! — завопил Йова. — Заводится дело. Итак, господа, удалитесь с кровавой тризны моего друга. Заводится дело…
Со двора Фогороша Раду Стериан спустился к берегу по старой и скользкой деревянной лестнице, укрытой завесой плюща, в которой шелестел дождь. Он хотел выпить чего-нибудь, согреться в одном из небольших ресторанчиков, расположенных вдоль берега. Раду никак не мог забыть безнадежности и обреченности в голосе жены Фогороша. Это тревожило его, вызывало какое-то необъяснимое чувство страха, как будто за ним брела собака, не переставая скулить, заунывно и сиротливо.
В трех из пяти ресторанов были танцы. Издалека слышался грохот барабанов, какой-то моряк-иностранец предложил ему купить отрез материи. Раду косо взглянул на него и вошел в бар с двумя десятками столиков и сильным запахом ангорских кроликов, попавших под дождь. Официант подтвердил, что действительно пахнет мокрыми кроликами, потому что постоялец наверху разводит их в открытых клетках на террасе и балконе. Но если этот запах неприятен посетителю, он может спуститься в подвальчик, где тоже есть столики.
— Спасибо, я не задержусь здесь.
Раду заказал рюмку коньяку и, когда официант ушел, набрал, в телефонной будке номер «Неотложки».
— Фогорош, — сказал он, — скажите, пожалуйста, как себя чувствует Фогорош?
— Вы родственник?
— Нет. Я из прокуратуры.
— Он умер, — вполголоса сказал человек на другом конце провода.
Раду устало повесил трубку. Всякая смерть, даже когда она не касается нас непосредственно, вселяет в душу печаль, сострадание и немного устрашает.
Раду вернулся к столику и выпил свою рюмку залпом. Запах кроликов исчез на мгновение. «Он умер», — повторил про себя Раду слова человека из больницы и понял, что эта мысль поселилась в нем еще в доме Фогороша.
— Желаете еще рюмку? — услышал он голос официанта.
— Нет, — ответил Раду и попытался представить, как выглядел этот Фогорош при жизни.
Может, был похож на свою жену, говорят, когда люди долго живут вместе, они в конце концов начинают очень походить друг на друга. Но он так и не смог ничего представить, так же как никогда не мог представить своего отца, который умер за несколько месяцев до его рождения и от которого осталась одна-единственная фотография, где он был изображен еще мальчиком в рубашечке до колен. Раду никогда не мог поверить, разглядывая этот снимок, что он сын этого ребенка в короткой рубашечке и со взъерошенными волосами.
Он отогнал эти мысли, смерть Фогороша придавала особую важность расследованию, которое ему предстояло вести. Сейчас он очень жалел, что прокуратура именно ему поручила это дело. Майя и Джордже скажут, что он сам напросился, чтобы отомстить. Ведь он с самого начала подумал, а трое рабочих с комбината, которых он встретил у Фогороша, еще больше утвердили его в этом мнении: комиссия, где председательствовала Майя, свалила всю вину на пострадавшего, чтобы скрыть собственную халатность и несоблюдение техники безопасности: «Он умирает? Земля ему пухом! Но комбинат тут ни при чем, не нужно было этому Фогорошу рот разевать».
Но теперь его мучили противоречивые мысли. Он доказывал себе, что Майя, может, вовсе не хотела никого вводить в заблуждение — искренне убеждена, что Фогорош сам повинен в собственной смерти.
Домой он прошел через черный ход, чтобы избежать неприятного разговора с Джордже. Но предосторожность оказалась напрасной. Дверь в комнату была открыта, и длинная полоса света, белая, как мел, блестящая, как целлофан— он не удивился бы, если бы она зашуршала у него под ногами, — протянулась через порог до самого ковра.
Раду остановился и ждал, что скажет Джордже. Ничего. Склонившись над письменным столом, Джордже внимательно рассматривал вырезанную из куска каменной соли церковь, огороженную массивными стенами. Весовщик соляных складов нашел ее в транспорте из Тыргу-Окны и подарил ему. Работа была искусная, мастер, видимо, знал свое дело. Входная арка, с которой свисал круглый колокольчик, с язычком не больше булавки для галстука, опиралась на два инкрустированных пилона с темными прожилками песка. Дверной проем был шириной с ладонь и позволял видеть, что делается внутри. Высокие окна были уставлены цветочными горшками, на клиросе восемь стариков слушали священника, который проповедовал с амвона. В глубине дьячок, стоя на коленях возле бочки, лил вино в кадило. Здесь же, над алтарем, Богоматерь, молодая, красивая, в платочке, повязанном под подбородком, как у сельской девицы, строила глазки парню, который поднялся на цыпочки, чтобы зажечь перед ней свечи. Тот, зная, что на него смотрят, улыбался краем губ и как будто хотел сказать: «Эге, ну и штучка ты, однако, душечка Мария святая дева!» В каждой свечке сверкали, отражаясь в кристаллических стенах, кусочки кварца. Смешные детали были очень удачно схвачены и оставляли ощущение, будто тот, кто сделал эту церквушку, издевался над всеми святыми.