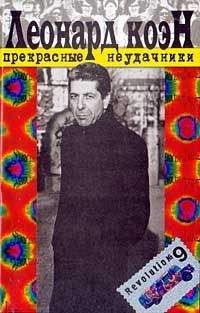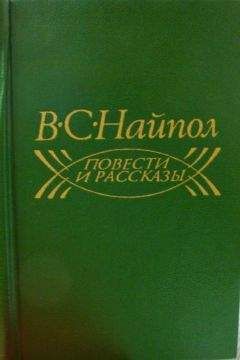Фзнуш Нягу - Властелин дождя
— Майя, — тихо и с укором сказал Джордже.
Майя молча покачала головой. Ей вовсе не нужна моя любовь, понял Раду, так что напрасно Джордже отходит в сторону. Тогда, на пляже, где они познакомились и он, изображая песочные часы, сыпал струйкой ей на плечи горячий песок, тогда он чувствовал, что она хочет его любви, но теперь скрывает это, как скрывает плечи, которых он касался щекой, как скрывает свои пугающе бездонные синие глаза, как скрывает обклеенную афишами стену и липу возле нее, под которой они целовались, как скрывает узкие улочки с ветвистыми деревьями, где он плутал в поисках трамвая, после того как проводил ее до дому.
— Тебе нравится Джордже, Майя? — спросил он.
— Я хочу, чтобы мы были друзьями, Раду, — ответила Майя, и он понял, что Джордже ей нравится. — Скажи, чтобы нам принесли еще выпить, Джордже, — попросила она.
— Нет, — возразил Джордже, — пора идти.
— Я выйду один, — решил Раду. — Допью свой стакан, встану и уйду.
Он попытался, ко не мог пить. Внезапно он почувствовал себя обворованным, как будто его силой или хитростью лишили чего-то, что всегда было его неотъемлемой собственностью. И он не мог пить. Джордже сидел неподвижно, откинувшись на спинку стула. Между пальцами у него дымилась сигарета. Он считает меня идиотом, подумал Раду. Впрочем, я в самом деле веду себя как идиот. Майя принадлежала ему не больше, чем Дунай какому-нибудь охотнику на медведей из Бучеджа. Но тупая боль вперемешку с волнами гнева, покрывшими его лицо пятнами, тяжело давила на сердце. Он поднялся и поклонился.
— Мое почтение! Мое почтение, господин Консул…
— Решил копировать Йову, — сказал Джордже.
Раду Стериан вышел. Стеклянные трубочки, похожие на позвоночники, подвешенные к косяку двери, коротко звякнули. Крупные капли дождя скользили по ним: зеленые, красные, желтые…
Майя положила голову на плечо Джордже. Она дрожала. Растроганный, он погладил ее висок, синеватые волосы. Рука скользнула по уху, коснувшись сережки, похожей на монетку, и по нежной прохладной щеке. Джордже почувствовал детское желание дохнуть на эту щеку, как на замерзшее стекло, чтобы она отпотела и ожила. Если бы он мог заглянуть в ее душу, то узнал бы, что Майя, которая, казалось, была вся во власти вина и звенящих струй дождя там, за стенами бара, на самом деле мысленно провожает каждый шаг Раду, что неуловимая грусть заполняет ее, потому что расставание всегда тяжело.
— Майя… моя Майя, — сказал он ласково, но в то же время укоризненно.
Майя грустно окинула его взглядом и слегка отстранилась. Джордже молча смотрел на нее. Он с удивлением заметил, что в Майе есть что-то непостижимое, что она как дикий зверек в горах: бегаешь, ловишь его, и когда, кажется, он совсем уже в руках, вдруг — прыжок на соседнюю скалу, и меж вами пропасть. Казалось, что она постоянно стремится куда-то, но куда, не знает, да и в самом этом стремлении было что-то отчаянное и безнадежное. Джордже вспомнил, как она рассказывала о своем браке с Хермезиу. Она говорила об этом медленно и спокойно, как человек, наполовину сморенный сном, наполовину бодрствующий, когда он еще не угасшей частью сознания следит, как постепенно сонное оцепенение овладевает всеми его членами, и рассказывает при этом о своих ощущениях.
— Нас было четыре девушки в группе, и я одевалась хуже всех. Платье у меня было только одно, а туфли такие, что боже не приведи! И Хермезиу предложил стать его женой. Он был декан и завкафедрой, жена умерла за несколько месяцев до этого. «Перебирайся ко мне, Майя, но должен предупредить, чтоб ты не пугалась, у меня сердце справа, каприз природы»…
— Почему ты молчишь, Майя? — спросил Джордже.
— Майя… Майя, — сердито передразнила она. — Ты произносишь мое имя, как цыганки на Липсканах, когда продают пивные дрожжи перед праздниками: «А вот майя для пирогов!»
Он взглянул на нее обиженно.
— Извини, — опомнилась Майя, — я что-то нервничаю. Расскажи мне что-нибудь веселое.
Джордже молчал.
— Тогда скажу я. Я люблю тебя.
— На два-три дня, как Раду? — спросил он язвительно.
— Нет, с тобой другое. Я чувствую, что это — навсегда. Раду я только думала, что люблю. Хочу букет цветов.
— Тюльпаны?
— Хорошо, хоть не лопух или репейник, — засмеялась Майя. — Запомни, мне нравятся только азалии.
Джордже подозвал официанта и послал его за цветами. Тем временем оркестр начал программу. Играли модный фокстрот.
— Потанцуем? — предложил Джордже.
— С одним условием.
— Заранее согласен.
— На этой неделе возьмем палатку и поедем за Дунай. Останемся там на субботу на ночь и на все воскресенье. Хорошо бы пошел дождь, знаешь, такой — сплошной стеной и с пузырями; мы бы развели костер у входа в палатку, ты бы курил, суровый, как рыбак, а я бы варила кофе.
И они пошли танцевать, обнявшиеся и счастливые. Оба были в таком возрасте, когда грусть преходяща, а радость бесконечна…
Покинув «Золотой голубь», Раду Стериан побрел вверх по широкой улице, пустынной из-за дождя, который заполнял собой всю безбрежную ночь. Мокрый, покрытый мурашками, как будто голым вывалялся в сосновых иголках, он никак не мог стряхнуть с себя ощущение, что его предали и прогнали. Он влюбился в Майю мгновенно, не раздумывая и не рассуждая. Она вошла в него внезапно, лишив душевного равновесия, и теперь, так же внезапно потеряв ее, он испытывал мучительное и унизительное чувство, как в свой первый школьный день, во время войны, когда член санитарной комиссии обнаружил у него вшей за воротником рубахи.
«Ученик Стериан Раду, — громко провозгласил учитель, — у тебя нерадивая мать. Поднимись на кафедру, чтобы на тебя посмотрел весь класс».
И он, худой, костлявый, с расширенными от страха глазами, с трудом одолел две ступеньки, вымытые соляркой. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди, перепачканной шелковичными ягодами. Рубашка выпала из рук, учитель тростью подцепил ее и швырнул, как бесформенный ком.
«Вшивый!» — выкрикнула какая-то девочка из передних рядов, и это слово ошеломило его.
«Вши-вый!» — подхватили хором остальные дети, стуча в такт по ранцам, как по барабанам.
Потом они стали кричать, свистеть и улюлюкать, все больше распаляясь при виде слез, которые ручьями заливали его лицо. Загнанный в угол, он озирался с ужасом, и вдруг его пронзила мысль, что санитарная инспекция, может быть, отправится к нему домой делать дезинфекцию. Он тут же представил себе паровой стерилизатор, похожий на огромную серую гусеницу, как его завозят к ним во двор на лошадях из примарии, а вокруг слышатся голоса: «Не знаете, почему ошпаривают Стерианов?» — «Как же, в школе у их парня вшей нашли». Он словно увидел их пустую, разоренную комнату, их вещи, запертые в кипящем стерилизаторе, почувствовал их тошнотворный, прелый и кислый запах, услышал плач матери, срывающийся на отчаянные рыдания, и ему захотелось крикнуть: «Господин учитель, не надо, господин учитель!» Но не смог разжать сведенные судорогой челюсти.
«Вши-вый!» — вопили дети.
Оглушенный и уничтоженный их криками, он выбежал на улицу и кинулся домой, не разбирая дороги, перепрыгивая через штакетники. Матери дома не было, она ушла на уборку кукурузы, он похватал одежду, постельное белье, сорвал со стены полотенца, отнес все это в яму на заднем дворе и закидал землей, оставив снаружи только уголок покрывала. Он слышал, что вши не могут жить под землей, и ждал, приготовив бидон с керосином, когда они полезут на поверхность.
В тот первый школьный день он заболел лихорадкой, которая не отпускала его еще в течение четырех лет…
В квартире, которую они снимали вместе с Джордже Мирославом на втором этаже дома с окнами на Дунай, он нашел записку, просунутую под дверь. Главный прокурор города поручал ему заняться расследованием несчастного случая на деревообрабатывающем комбинате.
«Не позднее чем через два дня наше заключение должно быть в обкоме. Соберите как можно больше материалов и начинайте уже сегодня ночью».
Записка пришла очень кстати. Раду поменял костюм, накинул плащ и отправился в «Неотложку». Дежурный врач не допустил его к пострадавшему: у старика Фогороша перелом основания черепа, посещения категорически запрещены, в течение дня он уже трижды терял сознание, и теперь малейшее усилие может стоить ему жизни.
— Я все понял, доктор, — сказал Раду. — Дайте, пожалуйста, адрес его семьи.
— Вадулуй, 16, это возле доков.
Улица Вадулуй, вымощенная ракушечником, ведет прямо к Дунаю. Под дождем прижавшиеся друг к другу неказистые домики были похожи на сбившихся в кучу старушек, взявшихся за руки, чтобы не соскользнуть в реку, освещенную двумя пограничными прожекторами. Раду разыскал нужный ему дом, с двумя сливами у входа. Там уже было человек десять родственников, соседей, знакомых, собравшихся потужить о старике. Раду ожидал этого, он из опыта знал, что несчастье всегда притягивает людей. Но был удивлен, заметив среди посетителей и Йову-неудачника. Чистильщик сидел на скамеечке и лущил горох. Горошины он бросал в деревянную бадейку, а кожуру — прямо на пол. Рядом с ним, свесив ноги с кровати, сидела жена Фогороша — толстая, с расползшимся дряблым телом. Ее руки, покрытые коричневыми пятнами, бессознательно теребили конец платка, помутившиеся от горя глаза блуждали по сторонам. Все молчали, как будто собрались только для того, чтобы послушать, как монотонно стучит дождь по железной крыше.