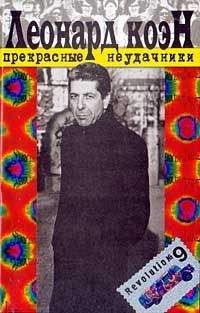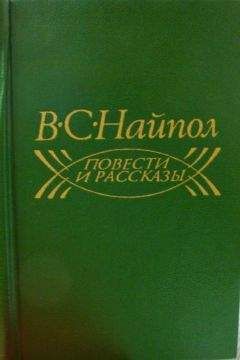Фзнуш Нягу - Властелин дождя
— Одолжил, — весело ответил Джордже и подмигнул Раду: ну как она тебе?
Раду устало передернул плечами. Черт бы ее побрал, выругался он про себя, прямо фонтан, из которого льется болтовня вместо воды.
— Что это такое, чудовище? — возмутилась Вирджиния, топнув ножкой. — Вы делаете знаки за моей спиной?
— Я попросил у него сигарету, — сказал Раду.
— Вы лжете, чудовище, но я вас прощаю. У вас тонкие губы — типичная черта человека, который хочет чего-то добиться.
Угадала, подумал Раду, хочу, чтобы ты помолчала.
— Что вы будете? — спросила Майя.
— Коньяк пополам с водой, — ответила Вирджиния. — И бисквит.
— А вы? — Майя повернулась к Джордже и Раду.
— Коньяк.
Майя вышла в библиотеку, оставив дверь открытой.
Расположившись в одном из шести кожаных кресел, в беспорядке разбросанных по гостиной, Раду мог наблюдать за ней. Майя открыла маленький переносной бар, сделанный в форме ромба с обрезанными углами и с зеркальными дверцами. Прежде чем вытащить бутылку, она быстро оглядела себя в зеркале и поправила прядку волос на виске. Он подумал, что сегодня Майя нарядилась для него, и эта мысль была одновременно и радостной, и горькой. Раду откинулся на спинку кресла и стал рассматривать книжные полки, уставленные томами в красивых золоченых переплетах, массивный письменный стол орехового дерева, освещенный тремя плафонами на высоких ножках, похожими на обуглившиеся деревья, потолок, расписанный стилизованными сценами ада, камин с решеткой и декоративными вертелами — и ему показалось, что среди этого сладострастного комфорта Майя больше не похожа на ту Майю с пляжа. Майя! — захотелось ему крикнуть, но ее уже не было, лишь примятый ворс на ковре в том месте, где она только что стояла, быстро распрямлялся, как трава, по которой пробежала лисица.
— Чудовище, — услышал он голос Вирджинии, — подвиньтесь поближе и слушайте совершенно потрясающую вещь. Смотрите, как он уставился на меня, — повернулась она к Джордже, будто беря его в свидетели. — Словно поймал меня с поличным. Так вы знаете Хермезиу? — вернулась она к своему рассказу. — Это блестящий специалист, влиятельный человек, одним словом, это незаурядное явление в его области; зарабатывает столько, что может озолотить Майю с ног до головы, но иногда такое отмочит, только рот разинешь. Вчера я думала — со смеху лопну. Представляете, где-то в половине двенадцатого звонит телефон. А Хермезиу сидел, где я сейчас. Я делала Майе маникюр, четыре часа ее прождала, маленькое чудовище, — погрозила она Джордже, — и тут звонит этот телефон. Хермезиу берет трубку и передает ее Майе. «Говори, девочка» — так он ее называет: девочка. «Алло… алло… Ярко-фиолетовое? Достал ярко-фиолетовую материю? Джордже, дорогой, ты такой милый мальчик». А телефонный шнур, здесь начинается самое интересное, проходит прямо по груди Хермезиу. Представляешь, она говорит с тобой, а шнур лежит у него на груди. С ума сойти, какая у него была физиономия. Майя, вне себя от радости, что у нее будет ярко-фиолетовое платье, начала скакать на одной ноге: «Ярко-фиолетовое, ярко-фиолетовое, я себе сошью ярко-фиолетовое». Ну, потом — «Пока, целую» и все такое. И вы думаете, на этом все кончилось? Нет, оставался еще Хермезиу. Он так пристально посмотрел на Майю, потом на телефонный шнур у себя на груди и говорит: «Ярко-фиолетовый цвет, девочка, напомнил мне, как я болел корью в детстве». Я думала, лопну от смеха.
Но реакция на рассказ Вирджинии оказалась совершенно противоположной ее ожиданиям. Джордже, красный как рак, нервно щелкал зажигалкой, безуспешно пытаясь зажечь от нее сигарету. Раду неловко молчал, сидя в кресле. Он переводил взгляд с телефонного аппарата в нише, выложенной внутри корой, как дупло, на взбешенного Джордже, затем на Вирджинию, изображавшую беспредельный восторг.
Все трое облегченно вздохнули, когда появилась Майя с подносом в руках. Хороший крепкий коньяк скользил в желудок, как огненная струя.
Джордже отказался от второй рюмки.
— Алкоголь на тебя плохо действует, чудовище? — спросила Вирджиния. — Вот и у меня то же самое: стоит выпить капельку — и уже готова.
— Мне что-то не очень хорошо сегодня, — объяснил Джордже, обращаясь к Майе. — Давайте выйдем, прогуляемся немного.
Они вышли. На первом же перекрестке им встретились две коляски. Джордже сел в первую и протянул было руку Майе, но та подтолкнула к нему Вирджинию, а сама направилась с Раду ко второй.
Лошади рысью понеслись по пыльной улице мимо казарм артиллерийского полка — горнисты трубили отбой, у ворот менялись караульные. Выехали на шоссе, ведущее к скотобойне.
Мы едем той же дорогой, что и старый грузчик Фогорош, подумал Раду и повернулся к Майе, чтобы сказать ей об этом. Но увидев, как ярко блестят ее глаза в золотистом свете луны, забыл обо всем. В эту минуту он чувствовал только, что Майя здесь, рядом с ним, в этой коляске, обитой старым, вытертым плюшем, с ним, а не с Джордже, и чувство радостного азарта охватило его. Дома, акации, стук колес, пахнущий тиной ветер с Дуная, луна в облаках— все это, вместе с его мыслями и чувствами, было одной песнью любви. Впереди дорога без конца и края, пройдет лето, наступит зима, лошадей выпрягут из коляски и запрягут в сани, и они опять полетят через снега, через поля, через замерзший Дунай, все дальше к заре, к бесконечности.
— Майя, — прошептал он взволнованно, привлекая ее к себе.
Но она отстранилась, и лицо его исказила гримаса отчаяния.
— Я не люблю тебя, Раду, — сказала Майя.
В эту минуту коляска внезапно остановилась, и Раду качнуло вперед; они доехали до старых ворот города, дальше дороги не было.
— Гони! — Раду вскочил на ноги и тряс извозчика за плечо.
— Дальше нельзя, — ответил тот. — Если хотите, поедем на ипподром, это направо… — И прямо через канаву въехал на беговую дорожку, пустив лошадей во весь опор.
— Я не люблю тебя, — повторила Майя. — Ты, я полагаю, ожидал другого от этого вечера, но я тебя позвала, чтобы рассказать о Дранове.
— Дранов виновен в смерти Фогороша.
— Да, — признала Майя, — это так, и я солгала, чтобы выгородить его, но теперь я знаю, что его уже ничто не выгородит. Мы учились с ним вместе и оба были самыми бедными в группе. Я солгала, потому что он был самым бедным в группе.
— Но ты солгала и еще один раз, Майя. Скажи, что это неправда и что ты любишь меня.
Он стоял в коляске спиной к извозчику и крепко держался за поручни, на которых кроваво поблескивали фонари.
— Скажи! — потребовал он еще раз.
Майя не ответила. В следующую минуту Джордже и Вирджиния с ужасом увидели, как мчавшийся по кругу экипаж сильно накренился, вот-вот готовый опрокинуться. Лошади неслись все быстрее и быстрее, от щебня на дорожке колеса издавали резкий, скрежещущий звук, похожий на частый дождь вперемешку с градом. Фонари уже не горели — разбились.
— Они себе шею свернут! — всполошился Джордже, но извозчик успокоил его, сказав, что его товарищ был когда- то жокеем в группе «красного дьявола» Черкасова.
— Он мастер своего дела, такие деньжищи огребал — будь здоров!
Коляска Раду и Майи вихрем пронеслась мимо них, оставив после себя запах керосина от разбитых фонарей. Раду все еще стоял, его лицо в свете луны казалось восковым. В конце второго круга он наклонился к Майе и попросил дрожащим голосом:
— Ну скажи, что ты солгала мне, Майя.
Перепуганная Майя отрицательно затрясла головой, и Раду почувствовал, как острая боль пронзила все его тело. Как будто он выпал из коляски, зацепившись ногой за подножку, и лошади тащили его по камням, как это случилось когда-то здесь же со старым грузчиком Фогорошем…
Поздней ночью Раду закрывал дело Фогороша.
«Прошу Народный суд города Г. предъявить обвинение инженеру Дранову, чье халатное отношение к служебным обязанностям привело к несчастному случаю, повлекшему за собой смерть рабочего Фогороша. Протокол, представленный комиссией по расследованию, назначенной предприятием, содержит неверные сведения и не может быть использован защитой обвиняемого».
В воскресенье в семь часов вечера, через три дня после описанных событий, Раду пил вермут на террасе бара «Золотой голубь» в компании Джордже, Майи и Йовы-неудачника. Был сухой августовский вечер, в воздухе звенели серые рои комаров. Днем Йова был на футбольном матче и теперь охрипшим голосом рассказывал, как болел за местную команду.
— Andiamo tripletta! — кричал Йова, — Вперед, тройка нападения! Andiamo, фурия латина… Пенальти… пе-наль-ти, kick, бей! Судья назначил пенальти, это верный гол, даже Рикардо Замора, лучший голкипер мира, тут иногда бессилен, а наши пробили мимо ворот. Нет у нас футбола, уважаемый товарищ Стериан… Эх, пани королевна, — повернулся он к Майе, — а ведь был и у нас когда-то настоящий футбол. На пасхальных турнирах я спал вместе с котами под трибунами. Капитаны выбирали ворота, чокаясь крашеными яйцами: «Христос воскресе», а потом — «Пожалуйста, болейте за нас, дамы и господа». Румыния была «фурия латина», ее боялись даже mascalzoni[6], чемпионы мира. А подите сейчас на стадион, царица кавказская, у игроков ноги заплетаются, это говорит вам Йова; богато звучит: Йо-ва (Глие-проныра, глаза бы мои тебя не видели), Йова — так называется самый плодоносный из сорока восьми штатов Северной Америки, хотя читается он иначе. Дайте мой стакан и опахало для кавказской царицы, чтобы отогнать комаров. Вы влюблены, пани королевна, и я вижу по глазам господина Консула, что вы скоро уедете вдвоем в свадебное путешествие. Только не на север, снега охлаждают любовь. Север! Что вы забыли на севере?! Шесть месяцев в году зима с весной спорят — и ни одна не одолеет. Правда, там есть кабаки с цыганами, которые поют тоскливо и жестоко: «Ох, любовь моя несчастная». А чтобы испытать любовь, нужно сто ночей под теплым небом. Прикажите — и я поведу вас к колыбели любви, под солнце юга, где столько птиц, что, когда они летают над водой, от их крыльев поднимается буря. Посмотрите, как клонится тростник от их полета. Это буря, но вы не бойтесь ее: ее принесли птицы с юга. Если у вас будет ребенок, научите его любить птицу-ветер. Эта птица никогда не опускается на землю. С рождения и до смерти она парит в небе. Спит в полете и падает, только сраженная смертью. Дождевые черви ненавидят ее, извиваются от радости, мерзавцы, когда она падает с окоченелыми крыльями. Пусть ваша любовь будет как птица-ветер, господин Консул, и тогда, где бы вы ни ступили, забьют родники. Сто ночей — это либо пустяк, либо вечность.