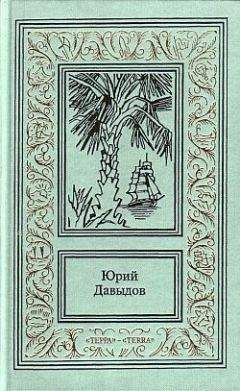Григорий Кобяков - Кони пьют из Керулена
Было время, когда над берегами этой самой реки звенел легкий, похожий на полет птицы, счастливый голос Алтан-Цэцэг. Она пела, и нередко ей казалось, будто вдруг над рекой, над туманами, над степью повисают незримые золотые нити — тонкие, нежные и чистые — и тянутся от ее сердца к сердцу далекого друга и по этим нитям летит ее звонкая песня-привет. Коротким, как весенний дождь, оказалось ее счастье.
Алтан-Цэцэг снова захотелось рассказать Лувсану о Максиме и о Максимке. И о песне, которая улетела от нее по невидимым золотым нитям и которая стала ее судьбой и самой жизнью. И о письмах захотелось рассказать, только не его, Лувсановых, а о других, о тех, что она не смогла уберечь.
Но снова сдержалась, не рассказала. Не смогла. «Когда-нибудь потом…» Протянула руку, сорвала тальниковую веточку, облитую холодной росой, и листочки приложила к пылают им щекам.
— Слышал я от старого русского доктора, начальника санитарной службы училища, — заговорил Лувсан, — такую притчу: жил один человек, который не мог выносить трепета падающих листьев. Каждая осень для него была мукой. И вот прослышал он однажды, что есть на свете такие страны, где деревья не знают листопада — круглый год зеленые. Собрался человек и поехал в такую страну. Год живет там, другой, третий. Благодать. Только вдруг стал замечать: с приходом осени ему чего-то не достает, — все время он что-то ищет взглядом и не может найти. И на глазах начал таять человек. А потом и совсем погас. Перед смертью, говорят, пришел к дереву, опустился перед ним на колени и, глядя на его буйную зеленую крону, все шептал: «Ну, падайте, ради бога, падайте! А листья не падали. И только тогда понял тот человек, что ничего на свете нет милее родины…
— Ты когда учился, тосковал?
— Очень, — признался Лувсан.
— Когда-то, Лувсан, ты хотел стихи написать, — сказала Алтан-Цэцэг.
— О маленькой девушке с большим сердцем, которая жила в маленьком поселке, строила новую жизнь и не отвечала на письма, А мне хотелось с нею встретиться так, как об этом написал когда-то русский поэт.
Голос Лувсана дрогнул, стал непривычно глухим.
Может, так это будет, а может — иначе,
Я в окно постучу, ты промолвишь: «Войди!»
Но, увидев меня, засмеешься, заплачешь
И лицо свое спрячешь у меня на груди.
Я, отвыкший от ласки, от мирного крова,
Радость встречи душою солдата пойму
И, не в силах сказать затаенного слова,
Неумело и нежно тебя обниму,
И впервые поверив, что мы теперь вместе,
Что все муки, все беды теперь позади.
Легким движением руки Алтан-Цэцэг остановила Лувсана, зябко поежилась, встала, Лувсан не без тревоги спросил:
— Ты расстроена, Алтан?
— Уже поздно, пойдем, — не ответив на вопрос, сказала она.
Они шли по притихшим улицам спящего города. Только с Главной площади доносились музыка и песни: беззаботная юность продолжала веселье.
Чтоб не молчать — молчание было тягостным для обоих — говорили о пустяках. А что-то важное для того и другого оставалось невысказанным. Так по крайней мере казалось Лувсану.
У калитки ее дома остановились.
— Алтан…
— Не надо, ничего сейчас не надо говорить, — перебила Алтаи-Цэцэг Лувсана и вдруг порывисто шагнула к нему, горячими ладонями обхватила его голову и поцеловала в левую щеку, вкладывая в этот жаркий поцелуй всю свою долгую тоску. Потом оттолкнула, коротко и тихо засмеялась:
— Спасибо, Лувсан!
Когда Лувсан опомнился, ее уже не было. Убежала. Ошалелый от счастья, он потрогал сладко обожженную левую щеку, радостно засмеялся. И было отчего. По обычаю, при расставании целуют в левую щеку, чтобы при встрече поцеловать в правую. Значит, будет новая встреча.
Лувсану надо было идти к аэродрому, в общежитие. Квартиры у него пока нет, их подразделение только на днях прилетело из столицы Внутренней Монголии — Калгана, и летчики не успели еще устроиться. По он не уходил. Он стоял и глядел на дом, на окна. Вот в одном из них на втором этаже зажегся свет. Но вскоре погас. Лувсан снова потрогал свою щеку, засмеялся и не то с сожалением, не то с радостью сказал. о себе, как о ком-то другом:
— Пропал, Лувсан. Погиб, Лувсан…
И не торопясь, побрел, по не к аэродрому, не в общежитие, а на берег Керулена, чтобы встретить там утро, а встретив его, сказать:
— Счастливый ты человек, Лувсан!
В эту ночь Алтан-Цэцэг не сомкнула глаз. Она хотела разобраться в себе, в своем чувстве к Лувсану. Что с нею произошло на берету Керулена, она никак не могла понять. Но именно в те минуты она вдруг почувствовала, что Лувсан — не посторонний для нее человек. В нем есть что-то необыкновенно близкое. И от этого Алтан-Цэцэг стало приятно думать о Лувсане, о том, что вот где-то совсем рядом живет человек, который думает о ней. Слова Лувсана о Катюше, сказанные вроде бы ни с того, ни с сего, сейчас не казались случайными. Он ее любит.
Ну, а она? Любит ли, может ли полюбить? Раньше бы сказала — нет, не любит и никогда не сможет полюбить, потому что была убеждена: любить можно лишь раз. Разговоры о второй или третьей любви — хитрый самообман. Потеряв одного, люди ищут черточки его в другом. И если находят их, готовы уверять и себя и других в том, что пришла новая любовь. Зачем же обманывают себя люди?
Но вот сегодня, все там же, на берегу, убеждение это вдруг поколебалось. А, может, она совсем не права, может, действительно есть на свете и вторая, и третья любовь? И эта вторая пришла сейчас к ней? Алтан-Цэцэг испугалась этой мысли, испугалась своего нового непонятного чувства.
Лувсан будет искать с нею новой встречи. Это она поняла по его глазам, которые горели темным пронизывающим огнем.
А она? Она тоже хотела встречи с Лувсаном. Она будет ждать ее. Человек всегда что-то должен ждать. Если перестанет ждать — он уже не живет, он лишь существует.
Но Алтан-Цэцэг боялась новой встречи. И потому решила: лучше, если встреча не состоится. И для нее, и для Лувсана.
И впервые поверив, что мы теперь вместе,
Что все муки, все беды теперь позади…
Сладкой болью ныло сердце.
Утром, когда все еще спали, Алтан-Цэцэг собрала сонного Максимку и уехала с ним к бабушке на Керулен. Вроде убежала, спряталась.
Но уже к вечеру и, казалось, беспричинно, Алтан-Цэцэг затосковала. Не находя себе дела, пораньше легла спать. Но сон не приходил. Она лежала и слушала, как грустно вздыхала вечерняя степь за юртой, как. тревожно кричали на речке не улетевшие еще в теплые края турпаны, которых Максимка называл таганами. Крики их — «Га-га! Га-га!» — отрывистые, резкие и громкие были похожи на человеческие всхлипы. В них слышалась какая-то безмерная, неуемная печаль.
У очага сумерничали бабушка с Максимкой. Отблески пламени, падая на лица, делали их красновато-медными. Красные тени метались по юрте. В открытую дверь из-за порога несмело вползала ночь, расстилая по земляному полу прохладные струи воздуха.
Бабушка, слушая крики гаганов, покачивала седой головой, словно разговаривала с птицами. Но вот обернулась к Максимке, спросила:
— Ты знаешь, Русачок, почему так тоскливо и громко кричат гаганы?
— Не знаю, бабушка.
Старая Цэрэнлхам неторопливо набила трубку табаком, достала из печки уголек, прикурила. Трубка ее сначала стала попыхивать, а потом весело и тонко засвистела. Кверху потянулся жидкий кисловатый дымок.
— Раньше нас, батраков, темных и забитых людей, ламы пугали: к большому несчастью это — к мору и голоду. Но потом мы узнали: птицам просто не хочется расставаться с родиной. На чужбине не сладко…
— А где вы это узнали — в школе?
Цэрэнлхам долго курила. Потом, выколотив пепел из трубки, ответила:
— Нет, Русачок, не в школе. Простые люди в старое время учиться не могли. Все по-другому стало после революции, когда прогнали князей и лам. Народная власть стала учить всех аратов. Деда твоего выучила, маму учит…
— И меня будет учить?
— И тебя. Долго-долго. Сначала в своем городе, потом в Улан-Баторе, а если ты захочешь, то и в самой Москве.
— О! — восторженно воскликнул Максимка.
О том, — что есть на свете Москва, что есть на свете великая страна счастливых аратов — Максимка знал давно. И дедушка ему об этом рассказывал и мама.
— А вот мы не знали, — вздохнула бабушка, — ничего не знали, кроме юрты и степи… Думали: за дальними сопками и свету больше нет…
Старая Цэрэнлхам снова надолго замолчала. Максимка уже подумал, что бабушка задремала. Но она подняла голову и усмехнулась:
— В сороковом году я впервые увидела поезд. Паровоз мне показался огромной бочкой, набитой дымом и паром. Ни в одной юрте не могло скопиться сразу столько дыму и пару. И чудно было, что бегала эта бочка по железным полосам, настеленным на деревянные бревна. И еще чудней показалось, что из бочки выглядывал человек — русский парень…