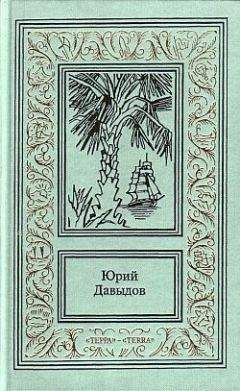Григорий Кобяков - Кони пьют из Керулена
Главный судья Цог немного передохнул и тем же голосом, торжественным и громким, продолжил славить скакуна:
Скакун, которым восхищается весь народ,
Конь со стальными удилами,
Скакун, полный силы и огни,
Скакун — краса многотысячного народа,
Украшение державы благоденствующей
В нерушимом спокойствии мира,
Скакун, принесший радость хозяину,
Увеличивший число победителей,
Конь неописуемой красоты,
Прекрасных, неперечислимых качеств,
Переполненный драгоценных свойств.
Скакун — шелковые поводья, Ясное Чело,
Мир и снокойствие, радость и счастье,
Чело десяти тысяч скакунов —
Вот он какой этот добрый конь!
Закончил Цог под аплодисменты зрителей.
Очирбат-Леднев, увенчанный краснозвездным шлемом, на Стриже проскакал по кругу, чтобы показать еще раз, какой замечательный скакун этот Стриж, которому воздают хвалу.
Праздник продолжался.
Толпы людей с площади двинулись на стадион. Там на зеленом поле продолжалась борьба и скоро должны были определиться победители — самые сильные люди аймака, которых наградят почетными званиями Сокола, Слона, Льва, а кого-то назовут мужественным, счастливым или растущим и скажут, что у них еще все впереди…
Алтан-Цэцэг не могла идти на стадион: Максимка совсем умаялся и начал дремать. Алтан-Цэцэг посадила сына на плечи, чтобы «везти» домой.
— Ну, поехали, — сонно сказал Максимка и крепко уцепился за материнскую шею.
Глава третья
Дом Лодоя был полон гостей. Здесь и Жамбал с сыном-победителем и Дамдинсурэн, и какие-то незнакомые военные люди. Все говорят, не слушая и перебивая друг друга, все опьянены радостью, все заново переживают события дня.
Уже вечером, когда дети спали, а гости, насытившись и подвыпив, ударились в воспоминания. Алтан-Цэцэг вышла из дому.
На главной площади, куда она пришла, крутым кипятком кипело веселье. Песни, танцы, смех.
И вот здесь Алтан-Цэцэг лицом к лицу столкнулась с тем борцом, который утром ей показался знакомым. Сейчас он был в форме летчика, подтянутый, неузнаваемый. «Ну, конечно же, это он, Лувсан, ее однокашник по техникуму».
Алтан-Цэцэг, растерянная и смущенная, улыбнулась. А он, пораженный, стоял молча. На лице его застыла какая-то нелепая улыбка. Наконец, облизнув пересохшие губы, Лувсан спросил:
— Это ты, Алтан-Цэцэг?
Вопрос был глупый, и Лувсан покраснел.
Алтан-Цэцэг расхохоталась. Лувсан пришел в себя, и только теперь посыпались те необязательные вопросы и восклицания, без которых не обходится ни одна встреча старых друзей: «Ну, как ты?», «Ну, что с тобой?», «А помнишь?», «А знаешь!..»
Алтан-Цэцэг украдкой разглядывала Лувсана. Уехал Лувсан от них совсем еще мальчишкой. За эти годы он вытянулся, раздался в плечах. Теперь это был статный парень, с прямым открытым взглядом, с упрямым подбородком. У него сильные руки, гибкая тонкая талия, которую подчеркивал туго перетянутый ремень. Лицо загорелое, обветренное. Глаза живые и веселые. Жесты энергичные, но не суетливые. Словом, летчик, сокол, покоритель неба. А отец его, увидев впервые самолет, спрашивал всех встречных: «Послушай-ка, брат, ты не знаешь, кто мог сделать эту летающую телегу?»
Лувсан пригласил Алтан-Цэцэг на вальс. Танцевал он легко, свободно, кружился с упоением, самозабвенно.
Когда юноши и девушки стали в круг для ехора, Лувсан спросил:
— Алтан, может, не будем?
— Может, не будем, — засмеялась Алтан-Цэцэг.
Они поняли друг друга: на людной шумной площади, на толчке не поговоришь. А им хотелось поговорить, вспомнить — ведь такие прожиты годы! И они, взявшись за руки, побрели с площади через вечерние, еще не спящие улицы города — к реке, на берег Керулена.
Лувсан рассказал о боях с японцами — монгольская авиационная дивизия, в которой он служил, действовала в составе конно-механизированной группы войск Забайкальского фронта. Слушая, Алтан-Цэцэг пыталась представить те дороги, которые Лувсан прошел.
Лувсан летал на волшебной птице Хангарид, именуемой самолетом. Вместе с мужественными парнями из страны Советов он освобождал от японских самураев столицу Внутренней Монголии Калган, города Джабэй и Жэхе. Яростными налетами он рассеивал в пустыне конные полки князя Дэвана.
Алтан-Цэцэг понравилась скромность Лувсана: рассказывая о великом походе, о героизме советских и монгольских воинов, он почти ничего не говорил о себе, а если говорил, то как бы между прочим.
— Летчикам что, вот кавалеристам и танкистам досталось… Раскаленные пески пустыни… Свирепое, обжигающее солнце… Тугой и горячий воздух… Тучи густой и плотной пыли, поднятой гусеницами, колесами, копытами… И безводье. Ни глотка по целым суткам.
Вышли на берег. Тихо, покойно катил свои воды Керулен. Тальники склонялись над водой, глядясь в темную ее глубину, из которой светились звезды. Хитрец Керулен! По ночам он всегда ворует звезды с неба.
Они сели на берегу, на землю, еще не успевшую остыть от дневного зноя. В их лица дохнул прохладой легкий и свежий ветер, прилетевший из степных просторов. Он принес с собой таинственные, нежные запахи и звуки степи. В ночном небе плыла белопенные легкие облака.
Алтан-Цэцэг сидела, обхватив руками колени. В какой-то миг вдруг почувствовала: Лувсана что-то стесняет. В нем появилась непонятная неловкость и скованность. Он вроде бы что-то хотел спросить и не решался.
— Что с тобой, Лувсан? — тихо спросила Алтан-Цэцэг. И тут вспомнила письма Лувсана, которые оставляла безответными. Еще в техникуме она, кажется, нравилась Лувсану. Однажды на классной доске кто-то написал: «Я люблю золотые цветы». Алтан-Цэцэг догадывалась, что это Лувсан, и поняла его прозрачный намек. Но вот та же надпись повторяется снова. Ее заметили однокурсники. И, забавляясь, стали писать эту фразу изо дня в день.
Алтан-Цэцэг обиделась. Она перестала замечать Лувсана и он долгое время ходил как потерянный.
Став курсантом военного училища, он вдруг осмелел, предложил ей свою дружбу. Она не приняла ее, молчаливо отвергла. Иначе она тогда поступить не могла.
— Ты техникум часто вспоминал, Лувсан? — спросила Алтан-Цэцэг и голос ее предательски дрогнул. Теперь и она почувствовала, что не может вести разговор запросто, по-дружески, как вела его при встрече на площади, по дороге на Керулен. Что-то сковывало ее, что-то мешало. И еще почувствовала, что волнуется, что сердце у нее бежит скачками, как у запаленной лошади, и в висках шумит кровь.
Лувсан не ответил на вопрос. Он сорвал тальниковую веточку и грыз ее.
— Расскажи, Алтан, как ты жила эти годы? — попросил он.
«О Максимке расскажу», — вдруг мелькнула мысль у Алтан-Цэцэг, но тут же эта мысль показалась ей кощунственной по отношению к Максиму, к его памяти.
— Наверное, как все, — неопределенно ответила Алтан-Цэцэг.
— Трудно?
— А кому в эти годы легко было? — и лицо ее тронула грустная улыбка.
Лувсан мог бы не задавать такого вопроса. При встрече, увидев ее глаза и четко обозначившиеся морщинки возле губ, он не мог не понять, что в жизни у нее не все было просто и безоблачно.
Над Керуленом закурился редкий голубоватый туман. Повеяло прохладой.
— А я в училище Катюшу любил, — казалось ни с того, ни с сего сказал Лувсан.
Алтан-Цэцэг вздрогнула. Глаза ее вдруг подернуло пеленой, влажными стали ладони рук. Тихо, почти шепотом, спросила:
— Какую Катюшу?.
— Ту, которая…
Лувсан долго и пристально поглядел на Алтан-Цэцэг. Как бы извиняясь, сказал:
— Я говорю про песню «Катюшу». Ее у нас все любили в училище. Спеть?
Не ожидая согласия, тихо запел:
Расцветали яблони и груши
Поплыли туманы над рекой…
Голос у Лувсана, как у всех летчиков, сухой, надтреснутый, с хрипотцой. Но в том, как взволнованно он пел, слышалось глубокое и тревожное чувство, тоска о чем-то затаенном и несбывшемся.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой…
Увидев блеск в глазах Алтан-Цэцэг — не то слеза набежала, не то лунный свет отразился — Лувсан замолчал. А у Алтан-Цэцэг от боли сжалось сердце.
…Берег, туман над рекой, девчонка, тоскующая о любимом. Это — в песне. Берег, туман над рекой и они двое. Видимо, сама по себе обстановка этого вечера заставила его вспомнить «Катюшу» и запеть, и растревожить сердце Алтан-Цэцэг, растревожить ее память. А память… она, как всплеск крутой волны и как старая незаживающая боль: нет-нет да и напомнит о себе.
Было время, когда над берегами этой самой реки звенел легкий, похожий на полет птицы, счастливый голос Алтан-Цэцэг. Она пела, и нередко ей казалось, будто вдруг над рекой, над туманами, над степью повисают незримые золотые нити — тонкие, нежные и чистые — и тянутся от ее сердца к сердцу далекого друга и по этим нитям летит ее звонкая песня-привет. Коротким, как весенний дождь, оказалось ее счастье.