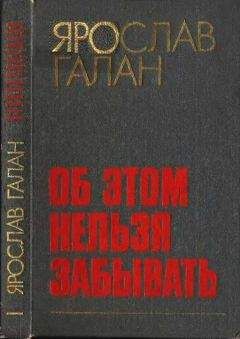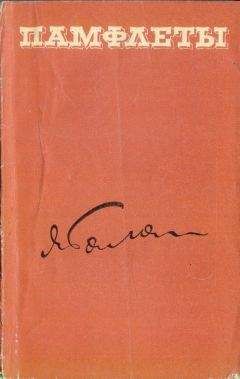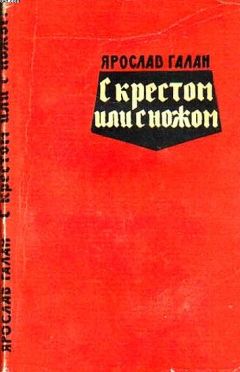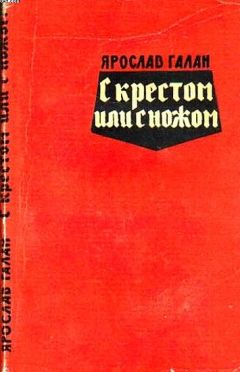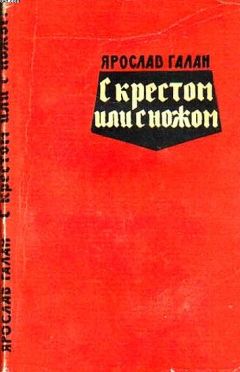Валентин Катаев - Том 2. Горох в стенку. Остров Эрендорф
— Может быть, — сказала мама.
— Не может быть, а наверное.
— Не наверное, а может быть.
— А я тебе говорю совершенно определенно, что это непедагогично.
— А ты думаешь, когда ребенок получает двойки, это более педагогично?
Сраженный железной логикой мамы, папа некоторое время молчал, собираясь с мыслями. Обыкновенно, когда мама и папа начинали спорить, Вася быстро надевал пальто и, стараясь как можно неслышнее хлопнуть входной дверью, убегал во двор. Это был наиболее благоприятный момент, чтобы незаметно улизнуть. Но на этот раз спор папы с мамой крайне заинтересовал мальчика, и он стал слушать дальше.
— Это, конечно, непедагогично, — сказал папа, подумав, — но то, что ты предлагаешь, прости меня, просто глупо.
— Почему? — с любопытством спросила мама.
— Потому, — сказал папа.
— Очень убедительно.
— Убедительно не убедительно, а уж это так.
— Докажи.
— Изволь. Что бы ты сказала, если бы я… гм… например, каждый раз, когда ты сваришь отличный суп, давал тебе в виде поощрения пять рублей?
— Я бы сказала, что ты окончательно спятил.
— Почему?
— Потому.
— Непедагогично?
— Просто, извини меня, глупо. Во-первых, я не нуждаюсь ни в каких поощрениях, а во-вторых, тебе великолепно известно, что я всегда варю суп отлично.
— Верно. Варишь отлично. А почему?
— Потому, что это мне нравится. Наконец, потому, что это мой долг.
— Правильно. Так в чем же дело?
— Это я тебя спрашиваю: так в чем же дело?
— Для тебя долг — быть отличной хозяйкой, а для него — отличным учеником.
— Как ты странно рассуждаешь! То — я, а то — он. Я — взрослый человек, а он — мальчик, почти дитя.
— Я не почти дитя, — с легкой обидой в голосе сказал Вася.
— Тебя не спрашивают, — строго заметила мама. — Когда взрослые разговаривают, ты должен молчать и не вмешиваться. Так на чем мы остановились?
— Мы остановились на том, что он почти дитя, — сказал папа.
— Именно. Почти дитя. Поэтому-то его и надо поощрять.
— Ну и поощряй сама. А меня в это дело не впутывай, потому что, повторяю, это непедагогично.
— А я тебе говорю, что это педагогично.
— Как угодно.
— Да. Мне угодно.
— В таком случае я отстраняюсь от его дальнейшего воспитания. Воспитывай его сама.
— И буду воспитывать. Я знаю детскую душу лучше, чем ты. Вася, где ты? Что ты там делаешь?
— Пальто надеваю, — сказал Вася, сопя.
— Поди сюда. Уроки сделал?
— Еще не сделал.
— Так куда же ты идешь?
— Гулять.
— А уроки?
— А уроки — вечером.
— Хорошо. Как хочешь. Вечером так вечером, но имей в виду, что, если…
— А что? — встревожился Вася. — Выпорешь?
— Нет, пороть я тебя, разумеется, не буду, — лукаво прищурилась мама, — но имей в виду, что отныне за каждую пятерку ты будешь у меня получать пять рублей. Понял?
— Понял, — деловито сказал сообразительный Вася. — И за пение тоже?
— И за пение тоже.
— Пять рублей?
— Пять рублей.
Глаза Васи алчно сверкнули:
— А за поведение?
— И за поведение. То же самое. Пять рублей.
Папа иронически хмыкнул, но, вспомнив, что отстранился от дальнейшего воспитания сына, молча пожал плечами.
Вася некоторое время напряженно думал, сморщив лоб, на который опускалась совсем-совсем маленькая белобрысая челочка, а потом спросил:
— Каждую неделю?
— Что каждую неделю?
— Получать буду каждую неделю или как?
— Каждую неделю, каждую неделю.
Вася еще немного подумал.
— А за четверку сколько буду получать?
— Надо полагать, за четверку будешь получать четыре рубля, а за четыре с плюсом — четыре пятьдесят, — не выдержал папа и, фыркнув, вышел из комнаты.
— Ладно, — сказала мама, — иронизируй, иронизируй! Посмотрим, кто из нас прав.
— Так мне, мамочка, можно идти? — с редкой непоследовательностью сказал Вася.
— Куда?
— А гулять.
— А уроки?
— Уроки — вечером.
— Ну как знаешь. Только имей в виду: потом тебе же будет хуже. Учти это.
— Учту, — сказал легкомысленный Вася и бодро побежал на улицу пускать кораблики.
Описание серебристых ручейков, воробьев, набухших почек и прочего, к сожалению, пропускается ввиду острого недостатка места в праздничном номере журнала.
Одним словом, Вася пускал кораблики, но мысли его были далеко. Сосредоточенно сморщив лоб, он хмурился и бормотал:
— Пятерка — пять рублей. Четверка с плюсом — четыре пятьдесят. Четверка — четыре рубля. Тройка с плюсом — три пятьдесят.
И пухлые губы его деловито шевелились.
И вот в один прекрасный день (описание одного прекрасного дня за недостатком места и за отсутствием у автора крупного изобразительного таланта пропускается) раскрасневшийся, ликующий Вася вбежал в комнату и торжественно бросил на стол перед мамой дневник, густо запачканный чернилами.
— Давай восемнадцать пятьдесят, — задыхаясь, сказал он.
— Восемнадцать пятьдесят? — сказала мама, удивленно подымая брови. — Какая странная цифра! Ты, наверное, что-нибудь перепутал. Не так подсчитал. Наверное, пятнадцать или двадцать?
— Нет, восемнадцать пятьдесят. Я хорошо подсчитал. Давай деньги. Ты обещала.
— Позволь, — слегка побледнела мама. — Как же это получилось?
— А так и получилось. Очень просто. Всю неделю старался. По письму кол — один рубль. По арифметике домашней двойка — два рубля. По арифметике устной кол — один рубль. По пению пятерка — пять рублей. Поведение четверка — четыре рубля. Прилежание двойка — два рубля. Рисование тройка с плюсом — три пятьдесят. Всего восемнадцать рублей пятьдесят копеек. Можешь проверить, честно заработал.
Папа хотел что-то сказать, но, вспомнив, что отстранился, молча рухнул на диван лицом вниз и затрясся от хохота. А у мамы глаза сделались совершенно круглые, а лицо побледнело как бумага. Она дрожащими руками взяла мальчика за толстые, красные щеки, заглянула в его синие простодушные глаза неутомимого работяги и с ужасом прошептала:
— Васенька! Мальчинька мой! Дружок! Как же это тебя угораздило? Солнышко мое!..
— Я бы это солнышко с наслаждением отшлепал! — простонал папа в подушку.
— Это непедагогично… — неуверенно пролепетала мама.
Одним словом, хотя автору и очень хотелось написать в первомайский номер солнечный, лирический рассказ, где бы большой, красивый отец, посадив на спину своего малютку, шел на Красную площадь смотреть первомайский парад, но, к сожалению, не получилось.
1947
II
Летят!*
Бывший чиновник Иван Иванович посмотрел на небо и спешно покрылся обильным, но очень холодным потом.
— Летят, — прошептал он, — летят, негодяи! Как пить дать летят! Лопни мои глаза!
Впрочем, глаза не лопнули и пить никому не пришлось давать. Наоборот, самому захотелось пить. От бешенства!
Высоко в небе, огибая верхушку Сухаревой башни, жужжащими мухами ползли аэропланы — семь штук.
— У-у, подлые! Летят и в ус себе не дуют. Одно слово — чудеса техники. Дожили, значит, до того, что коммунисты над головой лазают.
— А может, не наши, а? — спросила сердобольная торговка, обвешивая зазевавшегося покупателя.
— Не наши… Не наши… — передразнил Иван Иванович. — Чего зря треплешься! Звезды на крыльях, чай, видишь?
— Ви-жу.
— Ну и ладно. Коммунистические, значит, и есть. Птички.
— Вот они тебе, эти птички, такое на лысине снесут яичко, что мать родную позабудешь, — весело подмигнул проходящий мимо красноармеец.
Иван Иванович даже посинел от злости. Однако смолчал. Он знал, что на скандал нарываться не стоит.
— Так-с, — говорил Иван Иванович жене своей за обедом. — Иду это я по Сухаревке, а они летят. Семь штук. Коммунистические все. Со звездами. Вот тебе и нэп! И где только закон такой есть, чтобы коммунистам позволялось, извините за выражение, по воздуху летать? А!
— А это, папаша, красные летчики. Академия Воздушного флота. Учебные полеты совершают, — сказал сын Коля.
— Молчи, дурак! Тебя не спросили. Академия Воздушного флота! И кто это тебя только словам таким выучил, негодяя? Чтоб у меня не сметь произносить за столом такое…
Наступила пауза.
— Н-да… История с географией, можно сказать. Ведь вот сплошное мужичье, рабочие, пролетариат, а летят, негодяи! Хоть на свете не живи: куда ни посмотришь — коммунист. Только и было удовольствия, что на солнышко посмотреть, — там-то уж наверное коммуниста не увидишь. А теперь — на, выкуси. Фу-ты, дьявол!
Ночью Ивана Ивановича мучил кошмар.