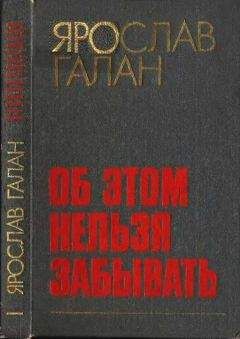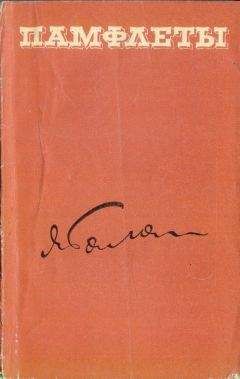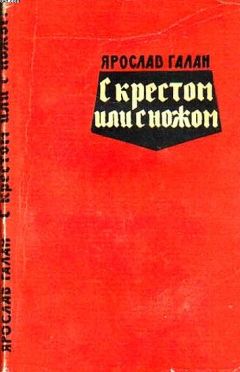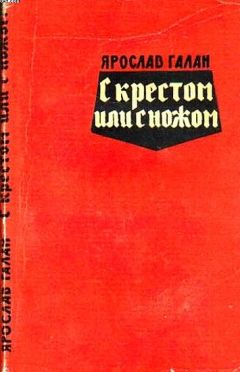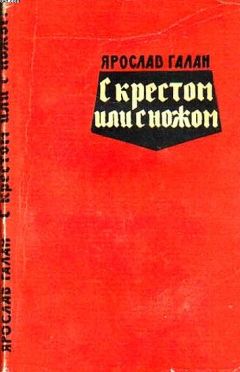Валентин Катаев - Том 2. Горох в стенку. Остров Эрендорф
— Такая нахалка! Хамка!..
Вечером раздается робкий звонок, и входит «Манечка с Электрокомбината». У нее беретик сидит на боку, из-под беретика на половину лица падает русая гривка, щечки красные, глаза синие, рот как черешенка.
— Здравствуйте. Я к вам только на полчаса. Послушать Лещенко. Послушаю и пойду.
Редькин поспешно садится на стул и делает широкий жест:
— Садитесь, пожалуйста.
Манечка мнется и садится на диван. Не вставая со стула, Редькин деловито заводит Лещенко. Потом подсаживается к Манечке на диван. Стоит ли передавать их разговор, вечный как мир?
— Что ж вы отодвигаетесь от меня? Вот чудачка. Я придвигаюсь, а она отодвигается… Жарко? Это значит: у нас хорошо топят. Дайте я вам погадаю по руке. Вы знаете, вы мне почему-то ужасно нравитесь. Никто, представьте себе, не нравится, а вы, как это ни странно, нравитесь. Честное слово. Я, знаете, ужасно одинок. Выпейте рюмку портвейна. Это совсем как вода. Все равно что ситро. Никакой разницы. Я вам отвечаю, что вы будете совершенно трезвая… Почему я наливаю в стакан? А это потому, что у меня нет рюмок. Холостяк. Вот, когда женюсь, заведу себе все хозяйство… На ком женюсь? Ха-ха-ха! А это от вас зависит, Верочка… Манечка? Ну, тем лучше. Итак, выпьем за любовь! За крепкую семью! Я ведь, как это ни странно, принципиально стою за крепкие половые отношения. Я этого не понимаю: сегодня с одной, завтра с другой… Мне это органически чуждо. Ну, будем здоровы! Пейте до дна, до дна. Раз за любовь, — значит, до дна! Вот так. Умница! А теперь еще одну рюмочку за взаимность… Что? Вы уже пьяная? Ни за что не поверю! Кушайте пирожное. Ну, не будьте такая… Что? Зачем закрываю свет? А чтобы он в глаза не бил… Ничего… Не поздно. Я вас подброшу домой на машине. У меня есть машина.
Ну вот видите, и ничего страшного не произошло. И не так поздно. Половина второго. Вы еще захватите последний трамвай. До свидания. Так я вам буду звонить завтра. Или послезавтра. До свидания. Бегите скорей, а то трамвая не застанете… Проводить вас? С удовольствием бы, но плохо себя чувствую. Мне врачи не велят выходить на улицу.
И катался, катался товарищ Редькин до сих пор как сыр в масле.
А теперь — такая неприятность.
Широкая советская демократия… Законы об абортах… Ответственность перед родиной…
Хоть караул кричи.
Ах, Редькин, Редькин! Неважная для тебя начинается полоса…
1936
Мимоходом*
Вообще говоря, подслушивать очень нехорошо. Но слушать — благородно, жить, так сказать, с открытыми ушами — совершенно необходимо.
Иногда случайно услышанная фраза просто забавна сама по себе, иногда за ней угадывается какой-то характер или даже явление.
То, что приводится ниже, не фельетон, не рассказ, это, скорее всего, фонограмма, бытовая звукозапись. Вполне естественно, что эта фонограмма велась в совершенно определенном, крокодильском направлении.
Говорят дети.
1. Совсем маленькие, Чуковского возраста.
Звонкий крик во дворе:
— Ребята, наша кошка отелилась!
Тихий домашний вопрос:
— Мамочка, что такое бытовое разложение?
2. Ребята постарше. Уже школьники.
Идет урок географии. Мальчик отвечает бойко и уверенно:
— В Турции произрастают фиги. Из этих фигов турки делают изюм…
3. Дети такие, что их уже даже неудобно называть детьми.
Солнечный весенний день в тихом арбатском переулке. Две очаровательные девушки в изящных светлых платьях замерли у подъезда. Третья девушка отошла на несколько шагов с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть эту прелестную группу, которая кажется воплощением расцветающей, еще немного застенчивой юности. Не поворачивая головы и не теряя мягкой улыбки, девушка у подъезда шепчет подруге:
— Дура, псих, не пялься на аппарат!
Парикмахер разговаривал афоризмами.
— С перхотью надо бороться, — говорил он. — Если вы с ней не боретесь, так она борется с вами…
На озере Селигер экскурсовод поучал туристов:
— Здесь жил и работал художник Шишкин, известный автор конфет «Мишка косолапый».
Разговор у букиниста:
— Что-нибудь новое из старого у вас есть?
Идет ночью по пустой улице пьяный дяденька и вполголоса бахвалится:
— Я в любой ресторан могу. Хочешь — в «Метрополь», хочешь — куда хочешь…
Докладчик начал так:
— Давайте на данный период снимем головные уборы и посидим тихо.
А кончил он так:
— Все достижения и все состояния очень нам видны. И мы должны завтра же засучить рукава и драться. Однако много драться не приходится, надо только приложить то, что полагается…
Преждевременно уставший литератор любит манерно жаловаться на трудности ремесла.
— Ах, если бы вы знали, как мне противно писать! — сказал он однажды.
— А нам-то читать? — ответили ему.
Выдался холодный день. Резкий, пронизывающий ветер. Воротники подняты, шляпы надвинуты. На площади простуженно хрипит продавщица эскимо.
— Сливочное эскимо, пломбир, мороженое! — взывает она.
Все проходят мимо.
И вот неудачница перестраивается на ходу.
— Горячее мороженое! — кричит она задорно. — Совершенно горячее! А вот, а вот, кому горячего?
И что вы думаете, кто-то купил эскимо.
Как известно, в пьесе Пристли «Опасный поворот» первый эпизод целиком повторяется в конце, заключая вещь.
Разговор после спектакля:
— Ничего интересного. Только зачем начало снова показывают?
— А это, наверное, для тех, кто опоздал.
Подмосковная школа. Урок истории. Учительница говорит:
— Хозары перекачивали с места на место и вырезали всех мужчин, исключая женщин…
Она же заявила:
— …Степан Разин в Астрахани вел себя либерально и относился ко всему с холодком.
1940
Оперативный Загребухин*
— Ну, что скажете хорошенького, товарищ Загребухин? — спросил редактор, подымая доброе, утомленное лицо от гранок. — Чем порадуете читателя?
Писатель Загребухин скромно опустился на стул, повесил голову и пригорюнился.
— Пришла мне, знаете ли, Павел Антонович, одна мыслишка. Одна, так сказать, идейка. Верите — даже не идейка, а целая идея. И так она меня, знаете ли, увлекла, что я буквально сон потерял. Не сплю, не ем. Только об ней все время и думаю.
— Нуте-ка, нуте-ка, это интересно. Выкладывайте.
Писатель Загребухин пригорюнился еще больше, потупил глаза, и, нервно сжимая руки, сказал глухим голосом:
— Мало у нас в прессе уделяют внимания животноводству, Павел Антонович. И плодоводству. Душа, знаете ли, болит. Вот мне и пришла в голову мысль. Не знаю только, как вы посмотрите. Хотелось бы мне съездить в какой-нибудь хороший животноводческий совхоз, в какой-нибудь, знаете ли, этакий плодоовощной питомник, да и написать в газету подвал-другой. Как вы на это смотрите?
— Это именно то, что нам надо! — воскликнул редактор, и глаза его засияли. — Это именно то, чего мы жаждем! Поезжайте, голубчик. Как можно скорее. Мы вам будем очень-очень благодарны. Только не отвлечет ли это вас от больших творческих замыслов? От широких полотен, от эпопей, от трилогий?
— Эх, Павел Антонович, Павел Антонович! — с горечью сказал Загребухин. — Пускай эпопеи другие пишут. Не до эпопей мне, Павел Антонович. Не такое у нас время, чтобы над эпопеями да трилогиями потеть. Писатель должен быть на уровне эпохи. Надо писать быстро, остро, оперативно. Главное — оперативно. Злободневно, так сказать.
— Верно, товарищ Загребухин. Правильно. Золотой вы у меня человек! Езжайте. Посмотрите. Изучите. Напишите.
— Слушаюсь! — бодро воскликнул Загребухин. — Напишу. Изучу. Посмотрю. Съезжу.
Через неделю читатель прочел большую статью Загребухина:
«Подъезжаем к воротам животноводческого совхоза „Новый мир“. Въезжаем. Навстречу нам выходит директор Синюхин. Это могучий, волевой человек в синей косоворотке. Он радушно показывает нам коров и свиней. Хорошие коровы. Превосходные свиньи. Садимся за стол. Дружеская беседа вертится вокруг коров. Вертится вокруг свиней. Особенно вокруг поросят. Недолгий летний день кончен. Пора уезжать. С большой неохотой мы расстаемся с товарищем Синюхиным. Бросаем последний, прощальный взгляд на превосходных коров и выдающихся свиней. Но увы! Надо ехать. Надо еще посетить плодоовощной питомник „Красный мак“. Выезжаем за ворота. Едем. Мчимся. Золотые лучи солнца весело освещают…»
И читатель думает:
«Ишь ведь какой человек этот Загребухин. Тонкий. Наблюдательный. Все-то он заметил. Все-то он описал. И как, дескать, подъезжаем. И как, дескать, уезжаем. И как, дескать, коровы и как, дескать, свинки! Ничего от него не укрылось. Одно слово — писатель! Гений!»