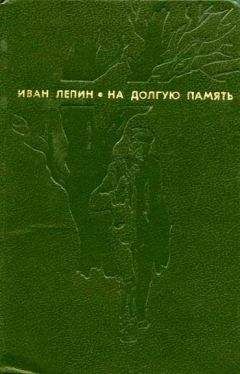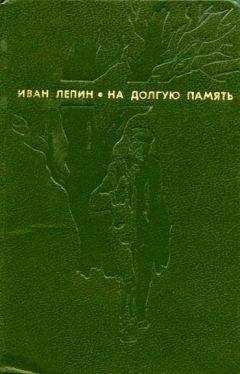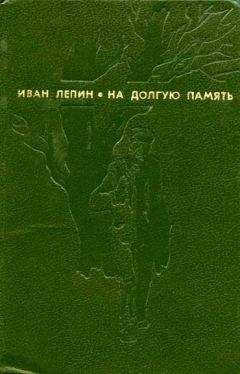Иван Лепин - Уроки
Каждую книгу он успевал прочитывать (это при ежедневной сверхзанятости). Успевал прочитывать, успевал отвечать — добрым отзывом, советом, а то и укором, если книга не приносила ему удовлетворения.
То ли не спал он совсем, то ли сутки у него были длиннее.
…А я не всегда прочитываю даже книги друзей.
С болью Ковалев сетовал на некоторых критиков:
— У нас в ходу нынче всяческие «обоймы». Вот и «обойму» военных поэтов изготовили — пять-шесть имен. Тасуют их, как карты, — то в одной статье, то в другой. Может создаться впечатление, что на фронте были только эти пять-шесть человек. В военную ж антологию критикам, похоже, и заглянуть лень. А ведь в ней представлено столько самобытных имен! И героических…
Он, очевидец долгой тяжелой войны, имел право на такую обиду.
Часто Дмитрий Михайлович вспоминал друзей-краснофлотцев. Многих из них навсегда поглотили воды Баренцева моря. Он говорил о товарищах, еле сдерживая боль, а писал — не сдерживая ее:
…От всей заставы
Пятеро осталось.
И не сознанье подвига —
Вина.
В глазах —
Тысячелетняя усталость.
А
Только-только
Началась война.
На войне у него погибли два брата. Об этом я узнал из его стихов. В разговорах же умалчивал про свое горе, возможно, опасаясь одного: у кого-то оно могло быть еще большим.
Ковалев писал о горе от имени всех:
Война не понаслышке нам знакома.
Мы собственную землю брали с боя.
У нас нет улицы
И даже дома,
Где б не было вдовы
Или героя.
Не меньше, чем колосьев в рясном жите,
Детей у нас и юношей в расцвете.
Кому же, как не нам, желать, скажите,
Взаимной доброй жизни на планете?
Сады с непозабытым белым маем.
Хлеба дремучие до небосвода…
Кто-кто,
А мы всем сердцем понимаем,
Как нам нужна хорошая погода!
Послал ему только что вышедшую у нас в Перми сувенирную малоформатную книгу «Весна Победы». Были в ней и стихи Дмитрия Михайловича.
Вскоре получил от него письмо:
«Большое спасибо за прелестное издание, за книжечку, вышедшую к 30-летию Победы! Молодцы вы, пермские издатели, ей-богу!..
На дни моего 60-летия собираюсь уехать из Москвы в Сибирь, чтобы не быть самому на своей старости, на ее пороге. Каждый день тут у нас похороны, прямо как на войне. Вчера похоронили Владимира Котова (умер от инфаркта). Мне он давно не звонил, а тут как раз в день смерти позвонил, сказал добрые слова о моей заметке о Шолохове, спросил, читал ли я о нем статью, там же, в пятом номере „Молодой гвардии“.
А сегодня хороним нашего заведующего кафедрой советской литературы Виктора Панкова. Тоже внезапная смерть от инфаркта. Котову — 47 лет, а Панкову, кажется, — 55. Куваев, Шукшин, Елкин — кругом смерти. Это я еще зажился, несмотря на военное прошлое, на нелегкое детство и прочее.
Летом собираюсь в Белоруссию и Болгарию — в июле и августе. Отдохнуть бы немного, а тут переводы стихов и прозы на шее, а о своем опять подумать некогда.
Мои приветы — Толе Гребневу и Алексею Решетову (о нем я написал рецензушку в „Новом мире“).
Обнимаю — Дм. Ковалев».Он гордился, что не без его участия был открыт поэт-фронтовик из Перми Константин Мамонтов, но тщательно скрывал это участие.
А дело было так.
В шестьдесят третьем году в издательстве «Молодая гвардия» выходил сборник стихов поэтов, погибших в Великой Отечественной войне, — «Имена на поверке». Узнав об этом, составителю — а им был Дмитрий Михайлович — редакция одной центральной газеты передала тетрадь со стихами погибшего солдата (ее подобрали на поле боя, а после прислали в редакцию фронтовые друзья поэта). Стихи Ковалеву понравились (простые, чистые и честные), и он рекомендовал их к изданию.
Книга благополучно вышла, получила прекрасные отзывы. Но самым радостным было то, что автор, Константин Мамонтов, остался жив, все послевоенное время, работал машинистом паровоза. В том бою он был тяжело ранен, утерял тетрадь, впоследствии считал ее навсегда пропавшей.
Публикация вдохновила Мамонтова, он, что называется, «расписался», и вскоре в Перми был издан его первый отдельный сборник, куда вошли и стихи из московской публикации. Он стал лауреатом премии ЦК ВЛКСМ имени Николая Островского, местная писательская организация единодушно приняла его в члены СП.
А вот на заседании приемной комиссии при Союзе писателей РСФСР, рассказывал Дмитрий Михайлович, дело осложнилось. «Нельзя принимать в Союз писателей по этой тоненькой книжке», — возразил один рецензент. Другой его поддержал: «К тому же автор далеко не молод, вряд ли издаст вторую».
— И тут я не выдержал, взъярился, — вспоминал потом эту баталию Ковалев. — С каких пор мы стали измерять качество литературы количеством? В этой книге всё — жизнь, в ней — судьба человека и поколения. Послушайте:
Забыть нельзя разорванное небо,
Друзей своих — могильные холмы
И каравай простреленного хлеба
В хозяйственных ладонях старшины…
Или вот это:
Не вечно быть войне. Солдаты
Чехлом закроют пушкам рты.
А кровь и смерть — в скупые даты,
На пожелтевшие листы…
И пусть сотрется пыль походов,
Изгладит память пыль свинца,
Но никогда солдатам годы
Не разминируют сердца.
Так высоко и просто сказать может только поэт. Пусть стихи его не всегда до блеска отшлифованы, но в них есть то главное, без чего любая гладкопись мертва. В них есть душа… Члены приемной комиссии, не знакомые с книжкой, просили меня читать еще и еще, и я читал, не уставая. Разве можно устать от настоящих стихов? К тому же я видел светящиеся от удивления глаза товарищей. Ведь подлинная поэзия — всегда удивление. А тут мы имели дело с таковой.
Мамонтова приняли в Союз писателей. Были у него впоследствии и новые книги.
Дмитрий Михайлович в своем «подзащитном» не ошибся.
До сих пор в моих ушах стоит пронзительное, непрерывное дребезжание звонка среди глубокой ночи.
Я вскочил с кровати, как ошпаренный. Растерянно ища тапочки, повторял: «Слышу, слышу, минуточку», — но там, за дверью (я, естественно, не ведал, кто там был), не отпускали кнопку, и звонок продолжал визжать, как живой, громче обычного, будто хотел освободиться от удерживающих его шурупов.
Я поспешно открыл дверь и увидел средних лет женщину; рука ее по-прежнему давила на кнопку.
— Извините, вам телеграмма. — Протянула бумажку и тоненькую шариковую ручку. — Распишитесь. — Я взял бумажку, чтобы расписаться в ней, и никак не мог найти нужную строчку.
Женщина ткнула пальцем в синюю галочку:
— Вот здесь. Пишите: «Два часа тридцать минут…» Число — шестое марта. Вот здесь подпись.
Руки мои дрожали, я кое-как исполнил требуемое; сердце предчувствовало недоброе — поздравительные и прочие рядовые телеграммы среди ночи не доставляют.
Не закрывая двери, прочел телеграмму:
«Умер Дмитрий Михайлович, похороны десятого…»
За месяц до случившегося я был в Москве, знал, что с декабря он лежит в больнице, и хотел проведать его. Но к Дмитрию Михайловичу посторонних уже не допускали.
В семьдесят первом году он — после семи операций! — выкарабкался из больницы. Снова писал, вел семинар в Литературном институте, заседал в редколлегии журнала «Наш современник» и в приемной комиссии Союза писателей РСФСР, как ни в чем не бывало колесил по стране в составе различных писательских бригад, писал стихи, рецензии, предисловия, переводил.
Еще шесть лет побеждал свою болезнь — диабет.
Думалось, что победит ее Дмитрий Михайлович и на этот раз…
И вот — страшная телеграмма.
Во сколько квартир его друзей, товарищей, учеников ворвалась эта весть! Скольких заставила вздрогнуть, в бессилии опустить голову.
Из прощального слова лауреата Ленинской премии поэта Егора Исаева:
«Дмитрий Михайлович Ковалев… Фронтовик-подводник. Большой русский поэт, пришедший к нам из Белоруссии… Как он любил родную землю — Центральную Россию и Белоруссию! Любил ее во все времена года. Любил дивную, бушующую в цветах и соловьях, любил туманную, серую — в низких облаках и секучих дождичках; любил белую — сугробную, вьюжную… всякую любил. Любил жителей ее и тружеников. Любил самозабвенно, мудро — от раннего тепла до позднего, от первого до последнего. Любил. И эта любовь, как сама жизнь, от всего сердца сказалась в его стихах, в его книгах — удивительных и неповторимых…»