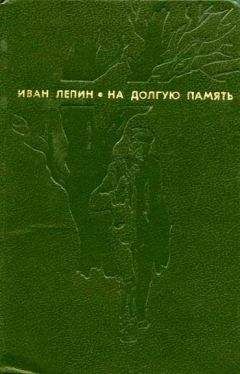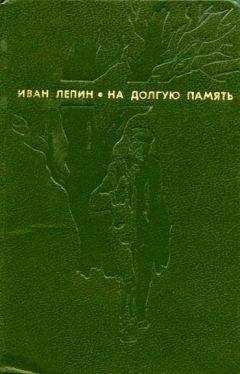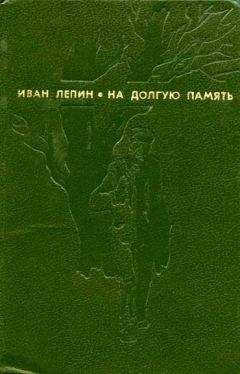Иван Лепин - Уроки
Во время сессии Ковалев успел с каждым встретиться наедине — у себя на квартире. Мы привезли с собой проекты дипломных работ, и теперь разговор шел по самому большому счету. Дмитрий Михайлович был по-прежнему строг, но в его строгом, ранее казалось нам, бесчувственном голосе теперь звучали нотки заботливости. Что это так, я убедился, услышав от него фразу (во время разговора о моем проекте дипломной): «По уровню ваших работ станут судить и обо мне как о руководителе, и поэтому я за ваши рукописи сейчас переживаю больше, чем за свои собственные».
И участливо поучал, корил:
— Пишешь: «Все семь дорог…» Слуха, что ли, нет? Разве можно ставить рядом два «се-се»? А это — коряво: «Бесподобностью я скован губ, потрогавших зарю». К тому же слишком неопределенно, неконкретно — «бесподобностью». Что сие значит?.. Далее. «У меня тихие глаза, как лужицы, как молнии». Ничего, но размер ведь нарушен. Чтобы не сбиться с ритма, нужно читать «у мéня». Далее. Вытравляйте всякое поигрывание, самокрасование — это претит хорошему вкусу, отвращает от того, что вы хотите сказать читателю. Стремитесь быть естественнее. Все нарочитое не внушает ни доверия, ни симпатии. В стихах это нетерпимо. Может даже из поэтического замысла сделать финтифлюшку.
Защита дипломной работы была назначена на четвертое ноября. Приехал я на два дня раньше, чтобы было время отдохнуть после дороги, осмотреться, унять волнение. Свободных мест в общежитии оказалось много, и меня поселили в отдельной комнате.
Москва готовилась к Октябрьским праздникам. Украшались стены и фронтоны зданий, вывешивались лозунги, плакаты, флаги. Красивы были по вечерам расцвеченные иллюминацией улицы.
Я люблю прогулки в одиночку, когда никто тебе не мешает думать обо всем на свете.
Иногда обрушивался поток тревожных мыслей, А ну как провалю защиту? Значит, минимум на год отсрочка в получении диплома. Каково будет смотреть в глаза заводским друзьям? Э-э, скажут, да он у нас слабак. А еще в поэты рвется. Поступал бы уж в политехнический — токарь-то неплохой…
Хуже, если жалеть начнут, — не переношу жалости.
Бр-р-р! Мороз по коже! Уж не позвонить ли Ковалеву — узнать его отношение к моей дипломной? Да и мнение оппонентов ему известно… Может, зря я переживаю, может, все уже решено…
Захожу в телефонную будку, лезу в карман за гривенником. Набираю две-три цифры и отрешенно вешаю трубку. Зачем приставать к человеку со своими сомнениями? Это меня они гложут. А его — ни капельки. Он, возможно, сейчас спокойно смотрит телевизор или читает. И нет ему никакого дела до того, что скажут мне в случае неудачи заводские друзья…
Назавтра я пришел в заочное отделение отмечаться и там встретился с ним. Он поздоровался со мной за руку — в глазах усталость.
— Не мог всю ночь уснуть, — сказал. — Переживаю за вас и Володю Порядина — самыми первыми ведь защищаетесь… Вчера, говорите, приехали? А чего ж не позвонили? Ах ты беда! Вместе бы и попереживали… Впрочем, по секрету сообщу, что, по моим наблюдениям, дела лично у вас складываются нормально.
Весной шестьдесят девятого года я переезжал из Донбасса на Урал, в Пермь. Поезд прибыл в Москву утром, времени до отхода «Камы» оставалось много, и я осмелился позвонить Дмитрию Михайловичу. После окончания института я не виделся с ним и теперь, набирая номер его телефона, волновался: захочет ли он встретиться со мной? Кто я ему сейчас? Бывший ученик, канувший неизвестно куда после госэкзаменов, не написавший своему учителю за три прошедших года ни строчки. К тому же я знал, Ковалев вел в Литинституте новый семинар, и ему теперь, наверное, не до бывших.
Трубку долго не снимали («Он, поди, за письменным столом сидит, а я его сейчас оторву от работы», — ругал я себя за бесцеремонный звонок). Но вот наконец узнаю его голос:
— Я слушаю. — И тут же — обрадованно: — Вы откуда звоните? С Курского? Приезжайте немедленно, я как раз чай собираюсь заваривать. Столько не видел вас!
У меня отлегло от сердца: не помешал, значит, ему, а если и помешал, то не так уж здорово (в противном случае он, не лицемеря, признался бы в своей занятости — такой человек).
Беговая улица, дом два. Этот адрес известен каждому его выпускнику, ибо за шесть лет учебы каждый побывал на квартире Дмитрия Михайловича много раз. Здесь хозяин привечал нас, угощал чаем, затем снимал стружку за неудачные стихи, а под конец, дабы студент уходил с легкой душой, рассказывал и о своих литературных трудностях («Не только вам одним достается по первое число»), по-отечески напутствовал и, уже у порога, рассказывал какую-нибудь курьезную историю из столичной писательской жизни.
Я коротко нажал на кнопку звонка, и дверь сразу же отворилась: ждали. Дмитрий Михайлович обнял меня, долго жал руку. Повесив мой плащ, пригласил:
— Проходите в кабинет, отдыхайте, а я сейчас…
Потом мы пили чай на тесной кухоньке. Было на столе: земляничное и малиновое варенье, засахаренная клюква, сливочное масло, копченая — тоненькими колясочками — колбаса, черный и белый хлеб… Из открытой кастрюли, стоявшей на плите, выглядывали закипавшие сосиски. Все для меня привычно. Только разговор другой.
— Вы здесь по делу? — мягко спросил Дмитрий Михайлович.
— Проездом.
— Куда, если не секрет?
— В Пермь.
— В гости?
— Жить.
— ?
— Жить. Поменял квартиру. В Россию потянуло… Хотел на родину переехать, в Курск, пришел в бюро обмена, а там говорят: «Курска нет. Есть Пермь. Хотите?» Я постоял две-три минуты, подумал. Пермь… Это — Кама, Виктор Астафьев, издательство (я давно мечтаю работать в издательстве). И согласился.
— Вы там хоть были?
— Восточнее Москвы никуда не ездил.
Дмитрий Михайлович поставил недопитую чашку.
— Ничего город. Без каменных громад, но не провинциален. Я в прошлом году был в Перми — на совещании молодых. Писатели там интересные — Радкевич, Давыдычев, Решетов. Да и среди молодых есть талантливые ребята. Приятно было с ними работать. — Ковалев, полузакрыв глаза, на минуту замолчал; мне показалось, он собирался с мыслями. — Только вот под конец один «непризнанный» мне настроение испортил… Мы как раз по Каме на катере прогуливались. Я сидел на корме, когда он подсел ко мне. Плотный такой, в очках, на плечи спадает шевелюра. Подсел и начал: «Вы не верьте нашим писателям, не такие уж они добрые, какими предстают с трибуны, на самом деле зажимают молодых как могут и где могут. Я недавно написал повесть, так прозаик П. такую отрицательную рецензию написал, что вы и представить не можете. А сам издал роман — муха через страницу переползет и сдохнет от скуки». В том же духе еще что-то пел, но я его не слушал, твердо решил, что этот товарищ — из стана графоманов. Настоящий талант не будет на словах доказывать свое преимущество каждому встречному-поперечному, он докажет это своим творчеством. Да… Он понял, что сочувствия от меня не дождешься, и направился в буфет… Вскоре спустился туда и я. Каково же было мое удивление, когда за одним столиком я увидел молодого прозаика, разливающего по рюмкам коньяк, и писателя П., на которого он только что, как нынче говорят, катил бочку. Но он не ужаснулся, заметив меня. Наверняка полагал: я промолчу. А я ужасно не люблю двурушников. Это ж ведь потенциальные предатели. И я подсел к П. и без обиняков поведал о том, что несколько минут назад услышал на палубе. Молодой прозаик проклинал, наверное, меня последними проклятиями. Но разве мог я смолчать? Ведь П., поди, считал его приличным человеком, наверняка со спокойной душой угощался, не зная, что его за глаза только что облили грязью. Он вдруг встал, высокий, широкоплечий, глаза метали молнии. Молодой прозаик под их огнем, казалось, таял, уменьшался, как свеча. Мне даже жалко его стало. Впрочем, вскоре я успокоился: может, это ему будет уроком, может, большую подлость не совершит…
Он прервал свой монолог, извинился, кинулся к плите:
— Сосиски-то давно уже сварились.
Подал мне тарелку с горячими сосисками:
— Ешьте, вы ведь с дороги…
Я ел, а из головы не выходило рассказанное Дмитрием Михайловичем. Не переставал спрашивать себя: «А у меня хватило бы гражданской смелости сказать правду о молодом прозаике?»
Спрашивал — и совесть моя медлила с ответом.
В очередной раз я попал в Москву через год — посчастливилось с командировкой. Стоял май — теплый, ранний. На московских улицах звенели свежей листвой деревья. Во дворе дома, где жил Ковалев, росли роскошные тополя, уже достигшие пятиэтажной высоты. В молодой зелени неистово кричали радостные воробьи и прочие городские птахи.
Дмитрий Михайлович пребывал в хорошем настроении, суетился в прихожей возле меня:
— Снимайте свою куртку, вот тапочки… Вы давно пробовали конопляное масло? — спросил неожиданно.