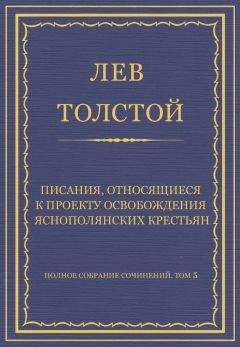Илья Бражнин - Прыжок
Тогда со стула рывком поднялся Петька.
— Товарищ председатель, прошу слова для реплики.
Председатель кивнул головой и объявил:
— Слово для реплики предоставляется общественному обвинителю — товарищу Чубарову.
Петька медленно обвел глазами затаивший дыхание зал и, будничным привычным жестом засунув одну руку в карман стареньких синих брюк, заговорил своим спокойным рокочущим баском:
— Товарищи! Прокурор ходатайствовал о доследовании. Я присоединился. Дело действительно темное. И я так думаю, придется как следует пощупать Кожухова, а может и других.
Но если дело светловское нужно отложить, то рассмотрение его программной речи, преподнесенной нам сегодня, уже никак нельзя откладывать. «Голова-парень, этот Гришка Светлов! Пока мы глазами хлопали да доискивались, сколько он водки выпил и сколько на Кожуховских часах времени было, когда на прокурорских два пробило, Гришенька Светлов забежал к делу совсем с другой стороны и ахнул нам свою проповедь, да как ахнул, прямо-таки хоть в аптеку за валерьянкой беги.
Дело-то, оказывается, вовсе не в том, что Гневашеву он или другой ножом пырнул, а в том, что мы его, Гришеньку, не уважаем и не понимаем. Вот в чем вся соль. Вот где собака зарыта.
Светлов смертельно обижен и распаленный этой обидой, раздутой до сверхъестественных размеров, он выступает со своей программой-максимум на закатных тезисах. „Не вы мне, а я вам судья“, — заявляет он. А вот постой, Гришенька, постой, разберемся: судья ли ты нам в самом деле. Для того, чтобы быть правым, мало одного петушиного наскока. На испуг ты нас не возьмешь. Сколько бы ты ни вопил истошным голосом о своих обидах, они все останутся только твоими личными, мелкими обидами и только. Ничего значительного во всей твоей истерике нет. Никаким общественным злом тут не пахнет, сколько бы ты ни надрывался. Слушая речь Светлова, все вы могли убедиться, товарищи, что это человек ушибленный. Да этого и сам он не скрывает. Чем же ушиблен Светлов? Нами, комсомолом, что ли, как это он хочет представить? Да нет, совсем наоборот. До этого он додумался только пару месяцев тому назад, да и то после белой горячки, как опять же сам он сообщил нам. Теории его о „жми, дави“ в комсомоле всего два месяца, а его ушибу куда больше. Чем же ушиблен Светлов?
Товарищ Великанов нам ответил на это куда как ясно. Светлова ушибла, убила, сгубила залихватская поручичья любовь.
Ты, Гришка, говорил — мы любим бабушек и дедушек вспоминать. Что же, признаемся, любим и не зря любим. Бабушки да дедушки, ох, какую силу имеют. Вот как дедушкина кровь сквозь комсомольскую шкуру из тебя брызнула — черная, застоявшаяся, гнилая кровь. За фонтаном крови фонтан слюны и слов брызнул. И слова-то — они тоже какие-то у тебя бабушкины, и отстаиваешь-то ты с таким грохотом старое, заплесневелое. Из сундука твоего рухлядью, нафталином несет. Оно, конечно, не все сто процентов правды в бабушках. Григорий Светлов имеет свою собственную личность, и он жалуется на комсомольский пресс, давивший будто бы на эту самую его личность.
Но я тебе по совести скажу, Григорий: не вижу я ни в речи твоей ни в твоих поступках никаких следов этого давления — ничего, кроме крика и истерики, которая уже всяко исходит не от комсомола.
Для того, чтобы не проглядеть настоящее лицо Григория Светлова, вскрытое сегодня куда как ясно, мы должны, товарищи, отделить эту его истерику от его жизни, его слова — от его дела. И вот, окончательно отделив одно от другого, я скажу, товарищи, — крику было слишком много, куда больше, чем дела. Каковы были дела Григория? Он любил, любил неудачно, мы ему сочувствуем, но мы неповинны в его несчастной любви. Так говорим мы, но не так думает Григорий. Он уверяет нас, и в самом этаком обличительном духе, что мы, то-есть комсомол, и есть виновники любви его и всех последующих, а заодно и предыдущих, его несчастий. Дескать, подняли травлю на любовь, научили Нину Гневашеву ненавидеть любовь, а значит (а по-моему совсем не значит!) и не отвечать Гришке взаимностью. Вот собственно вывод Светлова, и отсюда море помоев на нашу голову.
Но скажу я вам, товарищ Светлов, вы плут и вы подтасовываете карты. Да. Кто же заказывал нам любить, где, в каком пункте комсомольского устава написано против любви? Кто же виноват, дорогой товарищ, кроме вас самих, если Гневашева не отвечала вам на вашу любовь? По-вашему выходит, что мы, удушив ее общественной нагрузкой, вообще лишили ее возможности любить, и вы переносите это свойство на всю молодежь. Но позвольте, то, что она вас отталкивала, совсем не значит, что она вообще неспособна была любить, или, как вы утверждаете, была нами научена не любить. Совсем наоборот. Мы знаем, что она не только способна была любить, но и любила; мало того — шибко любила, шибче, пожалуй, чем ты, считающий себя густым спецом по любовной части. И это ты, Григорий, знал. Да. И, зная, умышленно толковал вкривь.
Теперь потолкуем о том, каким способом любовь проявляется. Один любовь понимает так, что полюбил — хватай свой предмет любви, запирай на замок, мечи молнии ревности, конкурентов твоих режь на кусочки или подстреливай как куропаток. Другой любовь понимает так — соединись с предметом страсти, обстройся, вышивай кисеты, лижи руки, подол, что придется, и не отлучайся далеко со двора.
Еще, пожалуй, существует и такой род любви. Тут, значит, идут воздыхания, румяные закаты, одинокие прогулки при луне или без оной, томления, страдания, драмы, револьвер, прорубь. Это любовь, так сказать, утонченная, как говорится — удел избранных. Ну вот. Григорий Светлов любил, конечно, по третьему, самому тонкому, способу и теперь поносит нас за непонимание его любви. А я скажу Григорию, что мы от любви ничего не отнимаем и сами, грешные, любим. Но когда речь заходит о том, как любить, тут, извини, мы со Светловым в корне, конечно, расходимся. Ни один из перечисленных способов нам не подходит. Мы бракуем их вчистую и всерьез. Мы хотим видеть другую любовь. Мы хотим любить, но, любя, мы не будем ни резать, ни стрелять своих соперников. Мы не запремся, любя, вышивать кисеты и не будем, любя, истекать слюной на закат. Мы хотим здоровой, крепкой любви, основанной на товариществе, основанной на взаимном понимании друг друга, на общности интересов. Мы хотим такой любви, которая бы давала человеку жизненный закал, рабочую зарядку, была бы радостна, соединяла бы его со всем окружающим, а не отрывала. Мы хотим любви крепкой и серьезной, прямой и правдивой, оздоровляющей отношения мужчины и женщины, девушки и парня, любви, в которой была бы крупица нашего будущего здорового социалистического быта. Вот какой любви хотим мы, комсомольцы, вот какой любви учим!
Да что далеко ходить! Вон видишь в четвертом ряду серую кепку? Она ничем не отличается от других кепок, также как сам владелец ее, Степа Печерский, наш заводский культкомщик, не отличается от других комсомольцев. Ты его прекрасно знал, но вчистую просмотрел его настоящую крепкую комсомольскую любовь, ты вчистую просмотрел его взаимоотношения с женой, тоже нашей комсомолкой, ты просмотрел и рождение их сына, маленького Плехана, и работу их, неослабную, комсомольскую и общественную работу, которую ведут они, не сдавая ни на волос все время. И Печерские не одни — их много. Но ты все это просмотрел в нашей среде из-за твоего кривоглазия, строя свои никудышные теории об опресненных ответработниках и предкульткомовских сердцах в портфеле».
Петька остановился и отпил глоток воды из стакана. Степа Печерский, ставший вдруг центром внимания той части зала, где он сидел, смущенно улыбаясь, теребил очки. Эта улыбка перекинулась и на лица многих окружавших Степу заводских ребят. Было похоже, будто часть зала вдруг разом улыбнулась добродушно одним своим громадным добрым лицом.
Петька, смолкший на минуту, отер выступавший на лбу пот, и его уверенный басок покрыл поднявшееся было в зале легкое движение.
— О любви, товарищи, нам придется еще малость поговорить и снова поставить на разные концы любовь по Григорию Светлову и любовь по-комсомольски. Любовь Светлова — это любовь, так сказать, всепоглощающая, любовь отчаянная. В случае неудачи требуется запить, наплевать на работу, на друзей, на комсомол, на себя, опуститься — последнее слово за всепожирающей страстью и всенаплевательством на всё, что к этой роковой случайности не относится. Так ведет себя Григорий Светлов, но так вести себя не хотим мы. Свои личные передряги мы, как бы глубоки они ни были, не выпячиваем на первый план. Мы пытаемся бороться с их всепожирающей силой. Любовь, как живоглот, глотающий людей начисто, нам не подходит, и мы, конечно, проповедывать такой любви не станем. Но Светлов этого не понимает. Этот герой — да нет, пожалуй, и не герой, а геройчик — случайно попал из бульварного романа в советскую действительность. Ну, конечно, всякому видно, что перемещение вышло для нашего геройчика неудачно, и попал он со своими теориями малость в неподходящее место. Он попросту не понимает, где он находится. Он будто с луны свалился. Он говорит о человеке, много говорит: «человек, человека, человеку» — только и слышно в его речи; но он не о нашем живом человеке говорит, а о каком-то своем лунном «человеке — вообще».