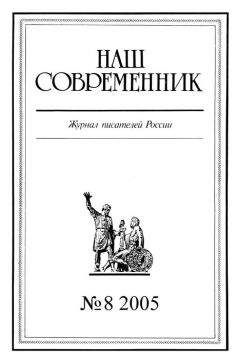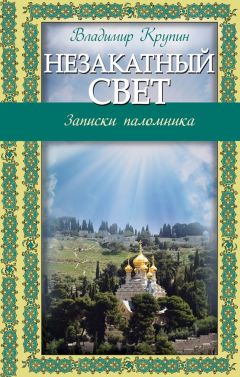Владимир Детков - Свет мой светлый
— Кто будет?
— Добрый вечер, привет вам от Сосновых Мити и Любы, — поспешил отозваться Серега, не зная, как себя представлять.
— А-а, спасибо-спасибо за приветы… Да вы проходите, там не затворено, — зарадовалась женщина. — Собачек не бойтесь, они у нас даже с волками дружат, а человека и подавно привечают. Злых не держим.
И в самом деле, пока Серега проходил через двор, поднимался на крыльцо, никто на него не тявкнул, не проворчал даже. Собаки неподвижно темнели в стороне от крыльца, справедливо считая свое оповестительное дело сделанным. И Серега невольно помянул Митиного братца четвероногого:
— Им тоже привет от Каштана.
— О, тут и Каштан и Каштанка сразу. И еще один сын-братец на железной у Игната. Щенками они все были лобастенькие, кругленькие, в маму коричневые, ну вылитые каштанчики. Думаем, если каштаны в тайге не растут, то пусть хоть они бегают… А с ними и слово приживется.
В прихожей, куда они вошли, — пар коромыслом. Посреди комнаты на лавке протянулось глубокое цинковое корыто со стиральной доской и замоченным бельем. Рядом на полу горбатился отжатым бельем эмалированный таз. На шестке исходил паром ведерный чугунок, видно только изъятый из печи для стиральных нужд. Керосиновая лампа, люстрой висевшая над потолком, наполняла комнату ровным матовым светом.
Женщина запричитала, винясь перед гостем за домашний разор, но при этом успела вытереть о передник и подать ему испарно-розовую, крепкую руку, сказав «здравствуйте, поближе» и представившись полным именем — Настасьей Меркуловной; улыбнуться приветливо всем румянощеким от пару и работы лицом; усадить его за стол и мимоходом накрыть сковородкой чугунок, чтоб не «дымил»; поставить перед гостем кувшин с топленым молоком, глиняную кружку и миску с пирожками и ватрушками, такими же приветливо разрумяненными и пышущими гостеприимством, как и сама хозяйка. На вид ей с трудом можно было дать за пятьдесят; и взгляд, и движения, и голос даже в столь поздний час, по всему видать, хлопотливого дня хранили неутраченную свежесть, радушие доброго человека. Разве что волосы, по-летнему подхваченные цветастой косынкой, взялись уже несдуваемым пеплом времени да морщины иглились изо всех живых уголков открытого русского лица.
— Ну как там крестник наш. Акимка, хорошо сосет? — неожиданно спросила Меркуловна, присаживаясь к столу.
Серега смутился, погорячел щеками, воочию представив себе Любушку, кормящую сына, вспомнив и свое тайное любование ею в те короткие минуты, когда она встречала его, накрывала на стол, держала полотенце…
Но в просветленном взгляде Меркуловны было столько пытливо-материнского ожидания добрых вестей, что Сереге уже впору было смущаться за свое смущение, и он ответил в тон вопросу:
— Орет хорошо, когда есть просит. И чмокает на весь дом.
Меркуловна закивала радостно и рассказала, как она впервые услыхала голос Акимки с реки, когда Митя вез домой свою семью. «Пуще мотора орал малый». Сама из материнских рук приняла, в избу внесла, и он окричал тут все углы, с десяток лет не слыхавшие младенческого плача. Потом, расспросив Серегу, кто он, откуда и куда путь держит, на своих разговор перевела. Их у нее шестеро: три сына, три дочки. Все разлетелись. Ближняя самая — младшая из дочек, Валя, в поселке в быткомбинате швеей работает. Хорошо работает, в почете ходит. Депутатка даже. Остальные по городам расселились. Витя, второй сын, офицером служит на Дальнем Востоке. Старший, Егор, так тот вообще за границей, «в Ёмени каком-то, где снег только в холодильнике, а черного хлеба в глаза не видят». Как специалист по машинам он там, с женой вместе.
— Спасибо, хоть внука оставили, спит вон, — Меркуловна кивнула на горницу, — скоро в интернат справлять надо на учебу.
Из горницы послышался далеко не детский всхрап и невнятное бормотанье. Меркуловна перехватила вопросительный взгляд Сереги:
— А это хозяин мой во сне воюет. Никита Васильевич. Как выпьет, так и воюет. Война-то и живых не пощадила: если кого пуля не ранила, так памятью не обошла. А мой и пулей меченный. В Одессу вот к сыну Саше летал. — Голос Меркуловны сразу как-то притих, взгляд опечалился. — Нынче посеред дня объявился. Сослуживец его подвез с поселка. А я, грешница, к выходному-то дню и стирку и стряпню затеяла. Сколько раз говорено — не хватайся, баба, за два ухвата, коль силенок маловато. Да нашему брату умом наперед не закажешь. Топчемся себе, хлопот наваливаем без огляду. Думала, управлюсь, а тут они в самый: аккурат подоспели. Встречай, хозяйка, гостей. Гость у нас в тайге всегда праздник. Выпили, конешно. Да не с радости…
Меркуловна вдруг умолкла и засмотрелась на окно. Стекла пропотели, и капли влаги, сползая вниз, разлиновали их ка малые полоски, меж которых сквозила темная синь…
— Сколько вам годков будет? — спросила она, снова переводя погрустневший взгляд на Серегу.
— В сентябре двадцать два исполнится.
— Вот-вот, я и смотрю, одногодки вы с Сашей, — сказала с грустинкой и вновь задумалась о чем-то своем. — Не знаю, стоит ли говорить… Да раз пошла плясать, не только перед казать… Беда с ним приключилась, в тюрьме он. Прошлым летом, как из армии пришел, шофером на поселке устроился. Все ладно складывалось: и работал с охоткой, и свадьбу загадывали на Октябрьскую. Невестины родичи подарков на тыщу закупили. Дружил он с одной еще в школе. Пока в армии был, переписывались, верно ждала. Верой, кстати, ее и зовут. За неделю до свадьбы все и случилось: под Сашин самосвал пьяный угодил… Саша клянется-божится — будто бы тот сам бросился спьяну. Он его и в больницу отвез, и в милицию на себя заявил… Свидетелей не нашлось, а человек тот помер. Присудили Саше три года. Какая уж тут свадьба-женитьба. Вера после приговора прямо в суде разрыдалась. Клятвы кричала — люблю, ждать буду. Да, видно, выкричала тогда ж всю любовь и терпелку. Знамо дело — отцу с матерью горе, а ей, невесте, каково… Так и вышло, что виноватых вроде нет, а закон править надо. Упрятали голубя нашего за решетку, да с тем беда не кончилась. Не сдержала Вера клятв, с другим в прошлом месяце расписалась и укатила из дому подальше. Не осуждаю я ее по-бабьи, хоть и понять не могу: зачем клятвы кричала, зачем надежду в душу вколачивала? Ведь и ждать-то осталось совсем ничего — досрочно освободить его должны за примерное поведение. Не злодей же он какой. С каждым может случиться. Ну не утерпела или постыдилась теперь судьбу свою связывать с судимым. Саше вроде обо всем честно написала. Нашла время, когда честность свою проявлять, глупая. Ему освобождаться, а он взбунтовался: «Раз она так — не хочу освобождаться». Нарушил что-то там, нагрубил и нам поганое письмо прислал. Вот отец и летал на свидание. Старшая дочка, Мария, в Горловке она живет, на Донбассе, тоже подъезжала. Беседовали, успокаивали, насилу уговорили. Начальство там с понятием отнеслось, обещали не задерживать. Да сюда, пожалуй, не вернется. У Марии в Донбассе будет устраиваться, от стыда подальше.
Приметив, что гость так и не притронулся ни к молоку, ни к пирожкам, Меркуловна всполошилась:
— Ой, что ж это я вас только бедами своими потчую?
Подхватилась из-за стола — и к печке.
— Сейчас я вам глазунью слажу.
Серега было начал отговаривать: мол, в путь ему пора, дорогу просил объяснить. Но Меркуловна уже угольков из печки под таганец нагребла, пучок лучины на них бросила — и враз затеялся бойкий костерок. Минуты не прошло, сало на сковородке заговорило, а хозяйка гостя успокаивать:
— До Игната от нас и часу ходьбы не будет. На лошадке и того быстрей. Без провожатого потемну, конешно, и приплутать немудрено, да Лысуха дорогу хорошо знает, не оскандалится.
Из застекленного посудного буфета достала розовый графинчик и две граненые стопки. Внутри графина в прозрачной жидкости утонул по самый гребешок цветастый стеклянный петух. Пока Серега, дивясь, разглядывал его, на столе появилась яичница, а к ней и разносол всякий.
Меркуловна взялась за графинчик.
— Если не погребуете — домашнего производства. Тот самый «свадебный», год, как допиваем вгорькую…
Серега не стал возражать, понимая минуту. Меркуловна налила в стопки. Голова петуха вынырнула на поверхность и, уменьшенная, стала чужой туловищу.
— Я и сама сегодня стоко передумала, будто самые тяжкие дни заново пережила, — сказала Меркуловна, поднимая стопку. — Хряпкаю бельем по доске, а перед глазами мой последух-горемыка… Пусть у вас все будет хорошо. — И потянулась к Серегиной стопке, чокнулась.
— Пусть у Саши все будет хорошо, — сказал ответно Серега, чувствуя, как ему самому при этом становится тревожно.
— Спасибо на добром слове, — голосом, скользнувшим по слезе, поблагодарила Меркуловна и со вздохом выпила рюмку «горькой свадебной».
XIII