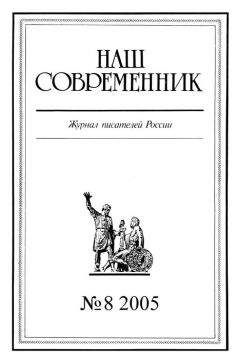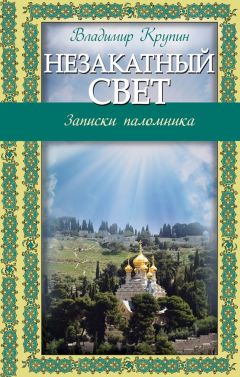Владимир Детков - Свет мой светлый
Судьбу дома своего Меркуловна досказывала на дворе, где седлали Лысуху. Лошадь, пофыркивая, оборачивалась на Серегу, точно выражала недовольство, переступала с ноги на ногу.
Меркуловна сунула ему в руки краюху хлеба:
— На, дай-ка ей, пусть почует доброту твою.
Серега протянул к губам животного мягкую краюху. Губы сначала недоверчиво фр-рыкнули, потом, почуяв хлеб, потянулись к нему, обдавая руку влажным теплом. Знакомство состоялось.
— Тут мы, можно сказать, чудом оказались. По щучьему веленью, — продолжала Меркуловна. — Вроде и обживаться стали. Хату новую подняли, не шибко дворец, однако своя крыша. Я работала на ферме дояркой, грамоты получала. Голодновато было, правда. Разор кругом — ни доски, ни полена, ни сахару, ни ситцу… Так ведь ясное дело — война-пожируха погуляла. Не роптали, силились. И жили б как другие. Но тут в селе Никитин дядька объявился. Это все его хозяйство, — обвела руками двор, проступающий из темноты, — заразил моего рассказами о Сибири. Там, говорит, ни Мамай, ни Гитлер не ходили, все в целости — лес, река, зверье-рыба, гриб-ягода. И предложил подворьями меняться. Самого-то на старости к родным местам потянуло. Загорелся Никита, совета у меня пытает. А я спужалась: «Кто ж, — говорю, — в Сибирь по своей воле едет?» Никита посмеялся и говорит уже серьезно: «Поехали, Сюша, не то, чую, сопьюсь я тут… Да и тебе старый козел житья не дает…» Это он о первом свекоре. Тот и впрямь скозился на старости. Зло берет, что зуб не имёт, так он языком лягнуть норовит. Спьяну болтнул, быдто бы Егорка вовсе не от Федора, а от него… И всякое такое. Отнять грозился… Посумерничали мы с Никитой день-другой да и снялись всем табором. Третий десяток пошел с той поры. Не жалкуем вроде, не сбрехал дядька — богатый край. Народу, правда, маловато. Зато кажный человек со всех сторон виден. А то была в тэй-то Горловке — людей возле дома одного словно в огороде морковок понатыкано. Рубль разменяй — всем по копейке не хватит. Не то что поздравствоваться, в лицо не всякому заглянуть поспеешь. Тут же у нас человеку — полный рубль внимания. И поговорить и уважить. От внимания к другому — тебя ж не убудет. Ты ему, он тебе. Был руб — два стало… Ой, погодь, я Гнату гостинцев передам.
Меркуловна вернулась в избу. Серега остался наедине с Лысухой, дожевывающей хлеб. Погладил по шее, зануздал, подобрал поводья на холке, вставил ногу в стремя, взялся за луку седла. Лошадь не проявила беспокойства. Вскочил в седло. Шагнула раз-другой — и снова застыла на месте. «Ну, для таких-то скакунов и мы казаки», — порадовался Серега мирному нраву Лысухи. Словно подслушав его мысли, вышедшая на крыльцо Меркуловна одобрительно воскликнула:
— Гарный казак. А то нонче молодые попривыкли на этих жужжалках бегать и у коня путают хвост с гривой…
В багажную сумку седла она пристроила белый сверток.
— Катерина, царство ей небесное, знатной стряпухой была. Я тесто по ее уроку затеваю — и Гнату как бы от нее гостинец будет. Два лета бобылюет. На вид здоровской старухой была. Шустра, непоседлива. Всех обхлопочет, обласкает… Гнат душой на нее не нарадуется, бывало. Щебетухой звал. Прошлой весной стала дрова с поленницы брать. Три полешка взяла, за четвертым потянулась, охнула и села на месте. С тем и ушла навеки. Сердце отказало. Добрым людям, видать, раздала его, а себе не хватило… Как родные они нам. Самые ближние соседи. Они тут с войны. Фамилия Нехода, а вон куда с Полтавщины зашли. Летось ездил Гнат на родину. Там Катина сестра у них. Звала переезжать. Пожил неделю и вернулся. Не могу, говорит, от Кати далеко. Тут вы меня рядком и поховайте…
XIV
Лошадь, подергивая вольно отпущенное поводье, уверенно шагала неширокой просекой, изредка отфыркиваясь, все же недовольная этой неурочной прогулкой, и Серега извинительно поглаживал ее теплую шею, стараясь сидеть как можно спокойнее, приноравливаясь к ее шагу, и даже замирал на вздохе, словно этим уменьшал свой вес, когда Лысуха одолевала одной ей ведомую неровность дороги.
Серега с трудом представлял себе, как бы он один шел здесь, в темноте, по невидимой, незнакомой дороге, и от этого проникался еще большей благодарностью к умному животному, безропотно и осторожно несущему его. Вернее, то была даже не благодарность, а обостренное сочувственное ощущение живого существа, и не просто его теплокровности, разумности, но и в чем-то — продолжения добра и радушия его хозяев. Им, конечно, и адресована Серегина признательность. А с животными у человека особые отношения. Мы проникаемся сочувствием к ним нередко лишь тогда, когда сами испытываем потребность в сострадании, когда тревожно и одиноко на душе.
Серега по себе знает. С детства запомнилось. Как-то поколотили его ребята. Спрятался в сарае больше от обиды, чем от боли, и жаловался в слезах своему коту Барсу, которого сам же накануне отхлестал прутом за то, что тот стащил весь улов рыбы и отобедал в одиночестве. Кот, конечно, помнил Серегины хлысты, но зла не держал и, великодушно принимая ласки, терся головой о его ладони и мурлыкал, тем сразу и прощая свои обиды, и сочувствуя обидам Серегиным…
Та же березка, что встретилась ему после крика Степаныча… Будто руки навстречу протянула.
После беседы с Меркуловной настроение его не то чтобы ухудшилось, упало, оно, скорее, усложнилось. Яркие краски Митиной судьбы, переполнявшие его на реке, вызвали милые сердцу островные видения. Но и теперь эти краски не обесцветились. Напротив, они как бы утвердились временем, что вобрала в себя живая судьба семьи Молокоедовых.
Не угасли, а устоялись. И беды и радости отцвечены более спокойно, уравновешенно, обыденно, но с той же глубиной и основательностью, которых достигают острая боль и распахнутая радость.
Пожалуй, с самого отрочества Серега любил, когда посреди затяжного пустосмеха и бездумья, которые сплошь и рядом случаются в свойских компаниях, ему вдруг портили настроение. Да, да, именно портили. Мишура бездумной веселости враз осыпалась, и ранимая душа после первых обидных минут обретала удивительное состояние — обостренно, объемно и материально ощущать весь обозримый для нее мир и болеть за него… С возрастом горизонты и заботы этого мира раздвигались. И он прятался ото всех, пуще огня боясь машинально-заботливого вопроса: «Что с тобой?» Редко какого задумавшегося человека не застанет врасплох этот гвоздящий вопрос. В детстве он звучит обычно: «Кто тебя обидел?» Во взрослую пору: «Кто вам испортил настроение?», «Что случилось?».
От Меркуловны какая ж обида. Разве что за Сашку. Крутой узел его судьбы вошел в Серегу безмолвным криком. Только Сашку роковой случай разъединил с любимой, а он вот сам отправил себя в добровольную ссылку…
Серега заговорил, и лошадь не выразила никакого беспокойства, а только попрядала ушами, свыкаясь, должно быть, с новым голосом и новыми именами, которые он произносит! И продолжала кивать, как бы соглашаясь и выражая сочувствие.
XV
Оля не любила писать длинные письма, и за три последних армейских месяца Серега получил целую пачку открыток. Они приходили в конвертах и в большинстве своем являли собой добротные репродукции картин. Да разве ж в солдатском общежитии что утаишь. Яшка Синев в тянучие вечера последних недель службы частенько предлагал: «Айда в твою Третьяковку, Серега». Яшка был родом из Коломны, но считал себя коренным москвичом и заводился с пол-оборота, если кто позволял сомневаться в его столичном происхождении. Настоящую Третьяковку считал своей, бывая там не раз, и, надо отдать ему должное, не впустую. По Серегиным открыткам мог прочитать целую лекцию, и нередко вокруг них собиралась свободная от нарядов братва. Хоть Яшка знал все представленные в открытках полотна назубок, но иногда машинально заглядывал на оборотную сторону и вместе с названием картины, конечно, вылавливал из письма какие-нибудь интимные детали. Но тут он был на высоте и не допускал комментариев.
А между тем в Яшкину трагикомическую ситуацию на личном фронте была посвящена вся рота. После августовского отпуска он вел бурную переписку сразу с тремя девчонками, и явно не на беспочвенной основе. Красавцем Яшку не назовешь, но и Крамаровым тоже. Хотя своими выразительными носами они, пожалуй, сошли бы за близнецов. Однако Яшка нисколько не страдал от своей внешности, потому как исповедовал железный принцип: «Мужчина должен быть не красивым, а решительным». И видно, перестарался, следуя ему на практике.
Было непривычно видеть Яшку всерьез озабоченным и даже растерянным, когда оставались считанные дни до возвращения домой. Разложив перед собой три фотокарточки с пылкими дарственными подписями, он подолгу разглядывал их, вслух живописуя достоинства каждой, и апеллировал к ребятам: «Какая больше нравится?» Когда очередь дошла до Сереги, он ответил: «Четвертая». Яшка с недоумением глянул на него, а сообразив, сказал: «Покажь».