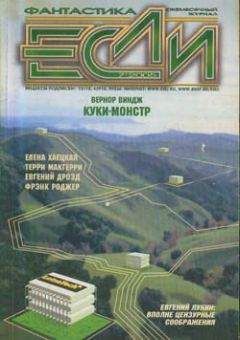Стремнина - Бубеннов Михаил Семенович
— Значит, он не сын вам?
— Как не сын? Сын, — ответила Анна Петровна.
— Ну, не родной, я говорю…
— Как не родной? — возразила Анна Петровна. — Роднее его у меня никого теперь нету. Выходил он тогда меня, а потом и говорит: «Вот что, мама, я не уйду от тебя…» — «Спасибо, говорю, будь сыном». Так он и стал мне сыном…
— Но где же его родители?
— А он сирота. С малых лет… — Присев на табуреточку рядом с Гелей, поласкав ее рукой, Анна Петровна продолжала: — Теперь уж все рассказать надо… Шестилетним мальчиком он проводил отца на войну, а через год пошел в школу уже сиротой. А мать, она молодая была, ворочала лесины в тайге, на заготовках, да и надорвалась. Целый год помирала. Все на его глазах. Война кончилась, а он остался один-одинешенек. Еще годик прожил в деревне, у тетки, а потом его взяли в интернат, в Железново. Зиму — там, а на лето — сюда, в деревню. Ходил по тайге, засечки делал на деревьях да живицу добывал. На химию она идет, живица-то… А подрос — в рыбачью артель принимать стали. Рыбачить у нас тяжело: и сила и ловкость нужны. Да все ночью, а тут, глядишь, и непогода… Веруся тоже училась с ним вместе, в той школе-интернате. Вместе и домой приезжали, вместе и рыбачили, бывало…
Она запнулась на минутку, но потом опять продолжала ровным, спокойным голосом, как умеют разговаривать лишь люди, узнавшие, что горе неисчерпаемо, а надо жить — и не для себя, а для людей.
— А в тот раз, когда буря-то налетела, — продолжала она, — Арсеньюшка с бригадиром в Железново ходили за сетями. Страшная буря тогда случилась. Сколько лесу повалила! А когда возвращались домой с сетями, им кто-то на реке, еще до Буйной, и передай о нашей беде. Так бригадир сказывал потом, что едва-то уберег его, Арсеньюшку-то, едва в лодке удержал. Связал да закатал в сеть, а то он все хотел выпрыгнуть из лодки. А когда, сказывал, вспомнил обо мне — и затих, и просил развязать. Вот и прибежал тогда ко мне — все губы искусал до крови, а терпел, ни одной слезинки.
— И даже не нашли! — воскликнула Геля.
— Где там, на нашей-то реке! А лодка вон, под навесом хранится…
— Они уже закончили в то лето школу?
— Вместе и закончили, — продолжала Анна Петровна. — Вместе и в речной институт собирались. А остался один — и никуда не поехал. Выходил меня, поставил на ноги, а осенью его в армию забрали. Сначала страшно было одной, а все-таки я всегда помнила: далеко, а есть у меня сын. И он не забывал меня, писал каждую неделю. У меня все его письма в целости. Вот такая пачка! И на побывку приезжал ко мне… Очень радовался, что попал в армию. Служил хорошо, много благодарностей от командиров получил, да и на шофера там выучился. А закончил службу — и опять ко мне, но тут я ему сама сказала: «Поезжай в институт, учись…» Зиму он учился в Новосибирске, а летом плавал на судах по Ангаре. Сначала матросом, потом штурманом… Идет мимо Погорюя — всегда причалит, забежит ко мне, попроведает, а то и заночует с товарищами. Боялась я, что его ушлют куда-нибудь далеко, когда закончит институт: рек-то в Сибири много! И правда, его посылали на Енисей, а он попросился сюда, на эти взрывные работы, ближе ко мне…
«Скрытный он, что ли? — думала Геля о Морошке, слушая Анну Петровну. — Да нет, не похоже… Просто он не хотел ничего рассказывать. Решил, пусть узнаю все от матери…»
— Начал рвать, а у него тут как раз день рождения… — продолжала Анна Петровна. — Приезжает ко мне, я его поздравляю и говорю: «Отслужил, выучился, все честь честью, сынок, а теперь пора жениться. Тебе уже двадцать пять. Тебе нужна жена, а мне — внучата. Верусю почитай, добрым словом помяни при случае… Но зачем же молодому да в одиночестве жить?» А он все слушает до головою крутит. Я ему и так и этак… «Может, говорю, стесняешься? Не стесняйся, говорю, за Верусю в обиде я не буду. Какая тут обида? Женись — и приводи, я ей буду рада. Кого выберешь — того и буду любить, как дочь». — «Ладно, отвечает, погоди, мама…» Он все молчал потом, а я ждала. А вот как ты, видать, появилась на Буйной, он заглянет попроведать меня, и все, замечаю, стоит перед портретом Веруси, стоит и молчит. Я и догадалась…
Геля вдруг сорвалась с места и встала у окна, хватаясь за горло. Ее лицо, освещенное солнцем, быстро и нехорошо бледнело, а дрожащие губы наливались синевой. Анна Петровна с криком бросилась к Геле, стала обнимать ее, ласкать:
— Что с тобой, милая? Что с тобой?
— Не знаю, не знаю, — заговорила, заметалась Геля, едва-то справясь со своим внезапным страданием. — Я нынче много волнуюсь…
— Тебя мутит?
Геля подтвердила это кивком головы.
— Наверное, от волнения, — сказала она жалобно, очевидно боясь нового приступа. — Так бывает, да?
— Знамо, бывает.
Но хотя Анна Петровна и согласилась с этим весьма охотно, смотрела она на Гелю с той особой мудрой женской вдумчивостью, с какой уже смотрела на нее украдкой, когда пили чай. Встретясь теперь с ее взглядом, Геля вся сжалась от нестерпимого озноба и ужаса.
— Да ты сядь, сядь! — закричала Анна Петровна.
Но Геля, шатаясь, пошла вон из горенки.
— И правда, давай-ка, милая, на крылечко, давай-ка на свежий воздух, давай, давай… — торопясь за Гелей, шепотком приговаривала Анна Петровна. — И что такое приключилось? Вот напасть-то! Ну, а раньше-то случалось так с тобою?
— Нет, нет, — торопясь ответила Геля. — Нет, не случалось.
Но Геля лгала Анне Петровне. По молодости и неопытности она не умела следить за собою, а вот теперь ей немедленно вспомнилось, что в последние недели случались, и не однажды, вот такие приступы тошноты. Но каждый раз у Гели находились самые различные объяснения случаям такого недуга, и потому они не оставили в ее памяти заметного следа. Встреча с Анной Петровной, с ее проникновенным женским взглядом, будто озарили Гелю, и она впервые поняла, как должно понимать, отчего происходят с нею разные непонятные перемены. Себе же она не могла лгать… «Боже мой! — кричала Геля самой себе. — Неужели это случилось? Неужели? Да что я спрашиваю? Что гадаю?» Распахнув одни двери, другие, третьи, она выбежала на низенькое крылечко, потом во дворик и, добежав до сети, ухватилась за нее, опрокинулась навзничь…
VII
В послеобеденное время они возвратились на Буйную. Проводив Гелю в прорабскую, Арсений вышел к обрыву, откуда любил осматривать реку, и увидел на шивере быстроходный катер. «Григорий Лукьяныч…» — догадался Морошка и спустился на берег.
Вчера прошел вверх караван с Мурожной. Две баржи были загружены свежим брусом для постройки прорабской и общежития на новом месте, красным кирпичом для фундаментов и печей, компрессором, перфоратором, бульдозером, разными ящиками, бочками и другой поклажей. Теперь, по уговору, его нагонял Завьялов…
Не сходя с катера, он спросил о караване и заторопился:
— Надо догонять.
— Заночевали бы…
— Некогда, брат, — отказался Завьялов. — Мне его не только догнать — обогнать надо. Пока подойдет, место для него облюбую. — И неожиданно, сменив тон, предложил: — Лезь в катер, я хочу прорезь поглядеть.
Сдвигая катер с отмели, Морошка сказал:
— Начнем с верхнего конца.
Они поднялись вверх на шивере до того места, откуда несколько дней назад ушел земснаряд. Оттуда начали спускаться точно над прорезью.
— Видите, как идет здесь струя? — спросил Морошка. — Красиво идет, сильно. Прорезь, не хвастаюсь, получилась хорошей, вроде канала, края ровные, все ямы заровнялись. Но есть еще камни.
Ровное, сильное течение быстро сносило катер будущим судовым ходом. Когда катер оказался против устья Медвежьей, Морошка сказал:
— А вот отсюда надо еще рвать.
Григорий Лукьянович, уже пожилой, но сильный, коренастый человек, в полной командирской речной форме, поднялся на ноги и с правого борта начал ощупывать наметкой речное дно. У него была отличная память. Карту Буйной он мог воспроизвести от руки совершенно точно. И все же, как человек практического опыта, он с трудом мог составить полное представление о шивере по карте и, вероятно, в какой-то мере не доверял ей. Для того чтобы составить о ней совершенно точное представление, ему непременно нужно было своей рукой ощупать ее дно и своими глазами увидеть, где и как играет на ней стремнина.