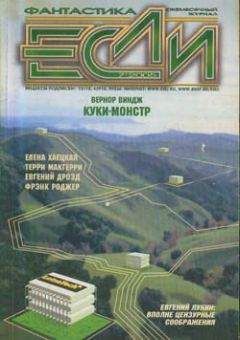Стремнина - Бубеннов Михаил Семенович
— У нас нужная, да и то ненадолго. — Остроязыкий Уваров не лазил за словом в карман, особенно когда был, как сейчас, в заметном возбуждении. — Ну, походят теплоходы нашей прорезью несколько лет, а построят станции по всей Ангаре — тут сплошь будут моря, так ведь? Кому будет нужна наша канава? Кто о ней вспомнит? Временное наше дело — вот что обидно.
— И в Братске немало временных работ, — сказал Морошка — Сколько труда ухлопано на перемычки! А где они?
— Теперь уже нет там временных дел! Делают то, что будет радовать глаз века! Мировой размах! Вот что приятно…
— Честолюбие, — определил Кисляев.
— Рабочая гордость!
— Не всем доводится делать видные дела.
— А думаешь, те люди, какие делают незаметные дела, очень довольны своей судьбой? — скривил в ехидной усмешке губы Уваров. — Довольны только те, кому все равно, как жить. Считай, самые что ни на есть равнодушные люди.
— Поклеп! — возмутился Кисляев. — Ты оглянись: кругом больше всего, как ты говоришь, незаметных дел, без большого размаха. И если поверить тебе, большинство людей у нас несчастны. Но разве это так? Что, проглотить не можешь? То-то!
— Да если на то пошло, и у нас размах немалый, — заговорил Морошка в волнении. — Задумано расчистить пороги и шиверы от устья до самой Кежмы. И тот ход, какой мы делаем, будет служить людям еще, может быть, десятки лет. Здешний край не будет знать нужды. Тут ведь одна дорога — река. Не завезут продукты — и народ бедствует. И потом, уже в будущем году по нашему ходу сплавят четыре миллиона кубометров древесины. Ее ждут не только по всей нашей стране, но и во многих странах мира. Вот теперь и скажи, какое у нас дело? Надо уметь смотреть на свое дело во все глаза, а не вприщурку…
— Опять не проглотишь? — поинтересовался Кисляев.
— Отвяжитесь, мудрецы! — проворчал Уваров.
«Отважный» уже приближался к деревне. Геля чувствовала, что тревожит Морошку своей задумчивостью, и украдкой коснулась его руки, тихонько спросила:
— А где ваш домик?
— А вон, самый крайний.
У берега — перед деревней — стояли в ряд лодки с высоко поднятыми носами: все они были с моторами разных систем: теперь на Ангаре никто, даже сопливые мальчишки, не ходят на веслах. Повыше, против лесопунктовского поселка, стояли не только лодки, но и более крупные суда — катера, самоходки, баркасы. А еще несколько выше по реке была запань, где составлялись плоты.
«Отважный» ткнулся в берег на пристани. Здесь Морошка повстречался с директором лесопункта Картавых, коренастым и очень подвижным человеком в затрепанной расстегнутой на груди штормовке. Его мясистое лицо и воловья шея давным-давно так огрубели от морозов и ветров, солнца и воды, что ему, должно быть, были нипочем и тучи таежного гнуса. И по одежде, и по внешнему виду Картавых мог сойти, скорее всего, за лесоруба или сплавщика. Он собирался идти куда-то на катере.
— Как мои ребята? — зашумел он, не дождавшись, когда Морошка подойдет и подаст ему руку. — Хороши помогли, а?
— Выручили, — ответил Морошка.
— Ну, как твои расчеты? Успеешь?
— С вашей помощью.
— Мы всегда готовы. Нам твоя прорезь во как нужна.
— Тогда так… — Морошка переждал, пока пройдут мимо все его рабочие, и сказал негромко: — На днях, должно быть, опять поклонюсь в ноги.
— А что такое? — быстро спросил Картавых.
— Потребуются сварочные работы.
— Только скажи. Мастерская своя, железо всякое есть, а уж мастера — золотые руки.
Рабочие повалили толпой в лесопунктовский поселок — у каждого было там какое-нибудь заделье. А Морошка и Геля, поднявшись на обрыв, повернули в деревню.
VI
Хотя Геля и уступила настоянию Арсения, она с большой неохотой отправилась в Погорюй. Гелю чем-то пугало предстоящее знакомство с матерью Морошки. И потом, как это ни странно, она опять испытывала то смутное и навязчивое чувство, какое разбудило ее прошлой ночью.
Вся деревенская улица, по которой Арсений и Геля шли на западный край Погорюя, была изрыта машинами и тракторами; рытвины, как на военной дороге, случись дождь — и улица превратится в непроходимое болото. Оказывается, лесопунктовские машины и тракторы развозили сельчанам сухостойные лесины, а той порой стояла непогодь. Гелю поразило, что почти все дворы погорюйцев были заняты высокими поленницами сосновых дров, так что и пройти-то по двору негде. У многих хозяев поленницы были сложены даже на улице, у заборов и ворот. Куда ни глянь — дрова, дрова, дрова…
— За зиму все сожгут, — пояснил Морошка.
Было воскресенье, но людей встречалось мало. По словам Морошки, все, кто мог, отправились сегодня по грибы и ягоды: сейчас самое время набить погреба и кладовки. На лавочках у домов сидели, греясь на солнце, лишь древние немощные старики да старухи. Все они, как заметила Геля, едва разглядев Морошку, услышав его басовитый голос, торопливо поднимались с лавочек, кланялись ему с почтением в пояс, а то и обнимали его, как родного сына. И все настойчиво и ласково зазывали в гости. А Гелю старые сельчане рассматривали с любопытством, но осторожно, боясь смутить, и ничего о ней у Морошки не спрашивали. «Умные старички! — удивлялась Геля. — Потактичнее иных городских!» Эти случайные встречи слегка успокоили и приободрили Гелю. И все же она не могла представить себе как покажется матери Арсения.
Удивило Гелю и то, что все сельчане, встречаясь с Морошкой, непременно расспрашивали его о том, как идут дела на Буйной. Одна маленькая старушечка, поймав Морошку за жилистые руки, стараясь получше вглядеться в лицо, допытывалась особенно настойчиво:
— Чо там, Арсений Иваныч, как у тя на Буйной-от? — У нее был полон рот зубов, и говорила она чисто. — Успеешь ли уладить ее ко времю? А то ить беда, сам знашь.
— Знаю, знаю, — твердил ей Арсений, не проявляя, однако, никакого намерения поскорее уйти от словоохотливой старушки.
— Постарайся, Арсеньюшка.
— Все сделаю.
— Гляди, на тя вся надежа.
Так на улице Погорюя Геля впервые узнала, как тревожится народ за дела на Буйной.
На краю деревни стояла совсем крохотная пятистенка под тесовой крышей, но более поздней постройки, чем большинство деревенских строений, с двумя оконцами на солнце; наличники над ними — из простенькой резнины, куда менее замысловатой, чем та, что делалась встарь; ставенки, недавно окрашенные белилами, четко отпечатывались на фоне потемневшей древесины. В палисадничке с огорожей из молоденького соснового кругляша перед каждым оконцем росли черемухи — самые частые гостьи в деревнях на Ангаре.
Войдя в калитку впереди Морошки, Геля одним взглядом окинула дворик, наполовину крытый тесом и выстланный толстыми плахами из лиственницы. Плахи были чисты, как половицы в доме хорошей хозяйки. Открытая часть дворика была занята поленницами дров и амбарушкой, вероятно, с погребком внутри, как часто водится в сибирских деревнях; крытая же часть дворика, где виднелась опрокинутая на чурбаны лодка, была отгорожена новой, неокрашенной сетью из капроновой нити. Перед сетью на скамеечке, спиной к калитке, сидела его мать.
Старушка задумалась или увлеклась работой и обернулась лишь тогда, когда Арсений, закрывая за собой калитку, стукнул щеколдой. Но еще до того, как она успела обернуться, Геля, увидев ее дворик, успела составить о ней определенное представление. И когда наконец-то увидела ее лицо, поняла, что не ошиблась, да и непозволительно было ошибиться: на этом дворике могла обитать только такая женщина, как мать Морошки. Она была небольшого росточка — по грудь своему, сыну, вся опрятная, вся беленькая, но с зоркими темными глазами, которые молодили ее необычайно. Увидев гостей, она так вспыхнула от радости, что у нее даже заметно порозовело чистое, в едва приметных морщинках милое старушечье лицо. В ее чертах не было ничего общего с Арсением, и все же Геле немедленно подумалось, что она, где угодно встретив Анну Петровну, непременно признала бы ее матерью Морошки.