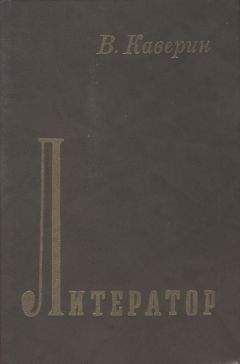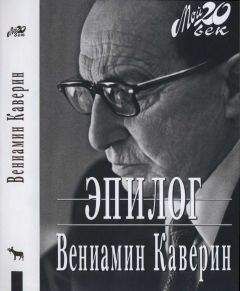Вениамин Каверин - Избранное
Ходики над головой Льва Иваныча показывали седьмой час.
— Да, это вредно, — выразительно посмотрев на них, сказал Карташихин.
Лев Иваныч тоже посмотрел на ходики, но ничего не сказал.
— Что ж ты… еще не женился?
— Нет.
— И не влюбился?
— Нет, — немного покраснев, отвечал Карташихин.
— Врешь, врешь, влюбился, — энергично возразил Лев Иваныч. — Матвей писал.
— Как Матвей?
— Матвей писал, что ты всех гонишь, лежишь больной. Ясно!
— Ничего не ясно.
— Ясно, ясно! Ну, а теперь?
— И теперь, — вдруг сказал Карташихин.
Лев Иваныч встал и обнял его за плечи.
— Что ж, — добродушно сказал он, — поженим.
Карташихин покачал головой.
— Нет, это совсем не то, — глядя в сторону, пробормотал он, — Это какая-то черная магия, от которой нужно отделаться — и чем скорее, тем лучше. Лев Иваныч, я давно хотел спросить вас… Вы никогда не были женаты?
— Нет.
— Почему? Вы не встретили такого человека… такую женщину, которая была бы достойна вашей любви?.
— Встретил.
— Тогда почему же?
— Вот именно поэтому. Если бы не встретил — женился бы. Разумеется, на другой.
— А та была замужем?
— Да.
Они взглянули друг на друга — и отвели глаза. Точно что-то глубоко запрятанное, сразу далекое и близкое прошло между ними. И Карташихин невольно вспомнил о том, с каким волнением всегда говорил о его матери Лев Иваныч. Это было не только волнение, но и нежность и задумчивость — неизменные, едва речь заходила о ней. Смутная догадка мелькнула…
«Неужели да?» — спросил он самого себя, взглянув на Льва Иваныча, сидящего понуро, опустив узкие плечи и повесив длинный, смешной, как у клоуна, нос. Но ничего невозможного не было в этом «да», каким бы оно теперь ни казалось странным.
— Я любил одну прекрасную женщину, Ваня, — помолчав, сказал Лев Иваныч. — Но она не знала о моей любви. И очень хорошо, что не знала. Ты читал «Гранатовый браслет» Куприна?
— Нет.
— Непременно прочти. Это история безнадежного чувства. Но автор доказывает, что даже безнадежная, кончающаяся смертью, любовь — это все-таки счастье. Уж такая, что горше нельзя себе и представить, а все-таки жизнь без нее пуста и ничтожна!
— Но ведь бывает и другая любовь, не правда ли, Лев Иваныч? — волнуясь и напрасно стараясь показать, что он ничуть не волнуется, спросил Карташихин. — Любовь, которая не обогащает, а опустошает душу?
Лев Иваныч ласково взглянул на него.
— Ах, вот почему черная магия! Пройдет, Ваня, — с поразившей Карташихина уверенностью сказал он.
— Кто знает!
— Забудешь и думать.
Они говорили долго, до утра. Было совсем светло, когда Карташихин вернулся в свою комнату. Он подошел к окну. Дом стоял высоко, и весь город, зажатый между черными, почти отвесными горами, был виден из окна. Старый горец в богатой черкеске ел и пил на террасе, три женщины, похожие на монахинь в своих черных одеждах, молча вязали в стороне. А там, вдалеке, высилась Большая Хатипара, и облака, как дым, ползущий по ворсу, поднимались вверх — все выше и выше — по ее курчавым темно-зеленым склонам.
12Десять дней были проведены в Теберде. Карташихин бродил по ее окрестностям. Он побывал на Азгеке, на Хаджи-Бие.
Возвратившись, он находил Виленкина всегда в одном и том же месте: на базаре, в лачуге, где женщина, вывезенная из Турции и считавшая себя природной русской, торговала персидскими сладостями и армянским печеньем.
Виленкин ел эти печенья и разговаривал с нею. Через несколько дней его знал весь аул. Дети бегали за ним. К прогулкам Карташихина в горы он относился ласково, но равнодушно. И Карташихин оставил его в покое, когда он объявил, что «горы», в сущности говоря, следует рассматривать как неровности земной коры, «затрудняющие передвижение по оной».
13Однажды, не вернувшись засветло домой, Карташихин остался ночевать в карачаевском коше. Полуголый карачаевец встретил его молчаливо, но радушно. В коше, над очагом, грубо сложенным из камня, висел на рогатом суке котел. Женщина, показавшаяся Карташихину красавицей, неподвижно стояла над ним, освещенная снизу. Дети спали на бурке. Карташихин выпил айрану, доел хлеб, который таскал в кармане с утра. Хозяин принес и разостлал перед ним старый ковер. Он лег. Звезды были видны сквозь щели между целыми, неободранными стволами, из которых был сложен кош. Вереск трещал в очаге. Женщина запела тонко, потом замолчала. Карташихин вдруг улыбнулся в темноте. Все было хорошо: звезды сквозь щели, эта женщина, горький дымок, который иногда доходил до него. Он вспомнил свой разговор с Львом Иванычем: «Забудешь и думать». Да, может быть. Он заснул с радостным чувством усталости и здоровья.
14Два саратовских студента и московский врач-бактериолог с женой догнали его, когда он возвращался с Азгека. Саратовцы были молчаливые, в тяжелых, подбитых гвоздями ботинках. Десять дней назад они вышли из Кисловодска. Мариинское ущелье поразило их. На местные пейзажи они посматривали с добродушным презрением.
Старженецкий, в котором чувствовался военный врач, напротив, был в хороших отношениях с природой. Все ему нравилось, в особенности зелено-молочная Теберда, весь день катившаяся к ним навстречу. Поминутно он окликал свою маленькую молоденькую жену, у которой было очень странное имя — Луэлла.
15Карташихин подружился с ним, и они подолгу бродили по берегам Теберды, в лесу, заваленном стволами гниющих неубранных сосен, или сидели у Кара-Кель, стреляя камнями в больших неподвижных жаб, вылезавших погреться на солнце.
Старженецкий был красивый человек, еще молодой, широкоплечий, с военной выправкой; всю войну, и мировую и гражданскую, он провел в кавалерийском полку. Он прекрасно, убедительно говорил, — и черты гимназиста вдруг мелькали, когда он начинал восхищаться природой или, страшно перевирая, читать Александра Блока. Карташихин рассказал ему о своих институтских делах. Осенью он собирается выступить с докладом в научном кружке. Тема — слух, анатомия слуха. Он не хотел браться, но Щепкин настоял. Щепкин — это руководитель кружка, ученик Хмельницкого.
— Наверно, вы слышали?
— О Хмельницком слышал, — улыбаясь, ответил Старженецкий. — Ну и что же, начали работать?
— Да, но без особой охоты… Его интересует совсем другое. Он хочет заняться изучением смерти.
— Чем?
— Изучением процесса умирания. Он думает, что это — обратимый процесс. Если бы можно было построить аппарат, временно заменяющий сердце и легкие…
Старженецкий выслушал его, не прерывая и не улыбаясь.
— Знаете что, ваш Щепкин прав. Отложите эту мысль лет на десять. На вашем месте я бы не стал обгонять себя — это никогда к добру не приводит. Найти себя — вот задача.
Жена позвала его, он ушел, и Карташихин остался один с таким чувством что запомнит этот разговор.
16Они собирались вместе отправиться на Клухор, и даже проводник был уже нанят. Но день выхода откладывали дважды — из-за Луэллы, у которой болела нога. Нужно было вскрыть нарыв, и Старженецкий, уверявший, что во время гражданской войны ему приходилось делать даже кесарево сечение, уже не раз приставал к жене с ланцетом. Она ругала его, — тихонько плакала и не сдавалась. Между тем хирург, по общим отзывам — превосходный, жил в той же гостинице, этажом выше. Он был приезжий, из Ростова, и второе лето проводил в Теберде.
Карташихин был у Старженецкого, когда, с трудом уговорив жену, Павел Иваныч отправился к хирургу — познакомиться и сговориться. Прошел час, другой, начинало темнеть, а он все не возвращался. Луэлла успела уже поплакать, пожаловаться на него, поговорить с Карташихиным насчет операции — как он думает, будет очень больно? — еще раз пожаловаться и снова тихонько поплакать. Она стала беспокоиться, когда он наконец вернулся, расстроенный и смущенный: доктор этот сам был смертельно болен.
— Я к нему с этим вздором, — сердито глядя на жену, сказал Старженецкий, — а у него — заражение крови. Как узнал, что я бактериолог, так и пристал: нет ли чего нового, не лечат ли по-новому за границей? Да что там по-новому… Ш-ш-ш!.. Вот он!
Высокий человек с сумрачным лицом и усталыми глазами спустился по лестнице в сад…
На следующий день, оставив Старженецких в Теберде и отправляясь на Клухорский перевал, студенты встретили больного доктора за озером, где начиналась дорога. Хоронясь от пыли, которую подняла только что проехавшая арба, он стоял, склонив стриженую голову, полный и бледный, в мешковатом черном костюме. Карташихин взглянул — и встретил взгляд серьезный и грустный. У него сердце защемило, он невольно ускорил шаги. Он никогда не видел никого печальнее этого человека.