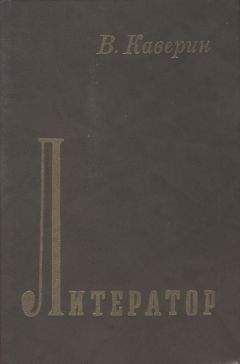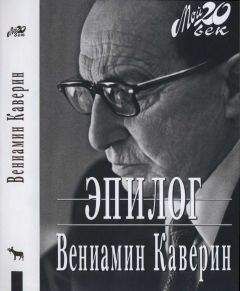Вениамин Каверин - Избранное
Если бы Лев Иваныч был в Ленинграде, он бы все рассказал ему, и все — как в детстве — стало бы очень просто. Но Лев Иваныч был далеко — на Кавказе.
«…Если бы подготовка социалистических специалистов падала только на комсомольские и партийные организации…» Он писал статью у окна. Небо было низкое, облака бродили, как мысли, сонные и неверные. Положив перо, Карташихин долго следил за их медленным, меняющимся движением. А что, если поехать к нему?
5Он давно собирался зайти к Трубачевскому, с которым не виделся добрых полгода. Это не было настоящими угрызениями совести — то чувство, с которым он время от времени вспоминал о нем. Но к понятию «совесть» это чувство имело некоторое, хотя и отдаленное, отношение. И нечего было доказывать себе, что он ничуть не виноват перед своим — еще так недавно — самым близким другом! Раннее летнее утро вставало перед ним, шумная компания, ломившаяся в ворота, и среди этих людей, нарядных, пахнувших вином и духами, — Трубачевский, под руку с женщиной, красивой, но чем-то похожей на крысу.
Он не стал звонить ему, пошел наудачу — и застал, хотя и «на отлете», как сказал, робко улыбаясь, обрадовавшийся ему старый кларнетист.
В новом костюме, свежевыбритый, бледный, рассеянно тараща глаза, Трубачевский быстро ходил по своей комнате из угла в угол. У него горели щеки, хохлы на затылке торчали встревоженно, недоумевающе, и, судя по тому, как он уставился на приятеля, рванувшего дверь и остановившегося на пороге, он был за тридевять земель от всего земного в эту минуту.
— Узнаешь? — улыбнувшись, спросил Карташихин.
— Ванька!
Добрых полчаса они ругали друг друга. Впрочем, ругал главным образом Трубачевский. Ну хорошо, новые друзья, институт, какая-нибудь особа женского пола — все это понятно. Но неужели не нашлось десяти минут, чтобы зайти или хоть позвонить? Нет, Ванька — подлец, теперь это для него совершенно ясно.
— А ты?
— И я, — охотно согласился Трубачевский. — Ну, рассказывай!
— Не о чем. Был в лагерях, теперь собрался к Льву Иванычу. Поехали?
Трубачевский вздохнул и сел, вытянув длинные ноги. Потом вскочил и, порывшись в ящике, вытащил маленькую белую книжку.
— Видал?
— Нет. Это что? Первый опус?
— Ты смеешься, собака, — добродушно сказал Трубачевский, — но, между прочим, только потому, что не смыслишь в этом деле ни уха, ни рыла. Я прочел десятую главу «Евгения Онегина».
— Да ну! Помнится, и я читал ее. В четвертом классе.
— Едва ли. Дело в том, что она была зашифрована, и на планете, называемой «Земля», я прочел ее первый.
— Поздравляю. Это — достижение?
— Я был бы очень рад, если бы тебе удалось сделать нечто подобное в медицине, — обидевшись, сказал Трубачевский.
— Ладно, не сердись. И не задирай носа. — Карташихин шутливо стукнул его по затылку. — Лучше скажи — что с тобой сталось? Ты прочел десятую главу «Евгения Онегина», напечатал книжку, небось получил сотни полторы…
— Две.
— Тем более. Все, следовательно, в порядке. Почему же в таком случае у тебя такой разгромленный вид? Можно подумать, что ты стоишь на краю пропасти, не решаясь — броситься ли вниз головой или все-таки перепрыгнуть?
Трубачевский достал портсигар. «Дорогой и новый», — нехотя отметил про себя Карташихин. Они закурили.
— Послушай, ты когда-нибудь думал о славе?
— Неожиданный вопрос. Наверно, думал, не помню. Тоже в четвертом классе.
— Твое счастье. А я вот часто думаю, и не отвлеченно представь себе, а совершенно реально.
— То есть?
— Мне кажется, что слава — это возможность распорядиться своей судьбой. И распорядиться так, как хочешь этого ты, а не другие.
— Что значит «ты, а не другие»? Кто эти «другие»? Твой родитель? Деканат ФОНа? Государство?
Трубачевский пробежался по комнате, сел и снова вскочил. Он и прежде был бледен, а теперь, глубоко вздохнув, побледнел еще больше.
— Послушай, ты можешь вообразить… Что, если бы к тебе явился — не знаю кто — чародей, волшебник? Явился и предложил бы перешагнуть через годы труда, через все испытания, огорчения, заботы? Через всю эту музыку, в результате которой я буду получать не сорок рублей в месяц, а сто сорок? Если бы он посадил тебя на ковер-самолет и — раз-два-три! — ты очутился бы… ну, допустим, в Париже. — Он затянулся и нервно погасил папиросу. — Сегодня мне приснился Париж. Какая-то набережная — наверно, Сены. Букинисты, книжный развал, знаешь, как у нас на Ситном, в Ветошном ряду. Я роюсь в книгах и вдруг слышу — говорят обо мне. Я не оборачиваюсь, притворяюсь, что не слышу. Обо мне ли? Да, обо мне. Потом какой-то бульвар, бесшумно проносятся машины, дождь виден в столбах света от фар. Я вхожу в кафе, иду между столиками. Люди играют в шахматы, читают газеты, пьют ситронад. Я вхожу — и все останавливается. Тишина. Смотрят на меня, говорят обо мне.
Он посмотрел на Карташихина и нерешительно улыбнулся.
— Фантастический сон!
— Я бы сказал — симптоматический, — возразил Карташихин. — И симптомы — угрожающие.
— Ты думаешь?
— Не сомневаюсь. Ты хочешь знать, что я сделал бы, если бы ко мне явился твой чародей? Изволь. Спустил бы его с лестницы. Я, например, задумал одну штуку. Один прибор, очень сложный и, может быть, мне не под силу. Но если бы завтра твой волшебник поднес мне его готовеньким — я бы отказался. Что касается славы… Славу, по-моему, надо заработать, а если ее подносят на блюде — значит, это слава нечестная, украденная.
Последнее слово выговорилось нечаянно, само собой, и Карташихин не понял, почему, услышав его, Трубачевский вздрогнул, как от удара. Впрочем, он сразу же оправился.
— Почему же украденная? — неловко засмеявшись, спросил он.
— Потому что это и не слава, а просто удовлетворенное честолюбие. А настоящая слава…
Карташихин поднял глаза и посмотрел куда-то мимо своего друга — точно там, в глубине комнаты, увидел настоящую славу.
— Остановить смерть, вернуть человеку жизнь, когда, по всем законам науки, она уже за пределами земного бытия. Доказать, что это — неверные, придуманные, продиктованные нашей беспомощностью законы. И не перешагнуть, а ворваться в самое трудное, действительно новое, еще небывалое на земле, ворваться и переставить по-своему — вот тогда и ждать славы, если уж без нее нельзя обойтись! И брось ты к дьяволу свои фантазии, — вдруг с дружеской теплотой сказал Карташихин. — Набережная Сены, букинисты, ситронад! Ты меня извини, но это, брат, литература, и не из лучших. Один ситронад чего стоит! И не будут о тебе говорить в парижских кафе, не надейся!
Трубачевский слушал, опустив голову. «Эх, напрасно я о ситронаде сказал», — с досадой подумал Карташихин.
— Нет, Колька, как хочешь, а я тебя не пойму. Ведь у тебя дело в руках, наука, если только чтение «Евгения Онегина» — это наука, — не удержавшись, добавил он в скобках. — А ты мечешься, несешься куда-то на всех парах, лезешь в бутылку. И еще, знаешь, какое у меня впечатление, — что все это не твои слова…
— А чьи же?
— Не знаю. То есть они какие-то… И твои и чужие.
«А вот это уж и совсем напрасно», — снова подумал Карташихин. Трубачевский криво улыбнулся, пожал плечами. Есть такое выражение: «уйти в скорлупу». Именно это стало происходить с ним на глазах Карташихина, который, окончательно рассердившись на себя, вдруг оборвал свои наставления. Но было уже поздно.
— Ты так думаешь? — холодно спросил Трубачевский. — Может быть, может быть. Значит, ты недавно из лагеря. Ну как, здорово вас погоняли?
Они заговорили о другом — и неловко, неестественно заговорили. Через четверть часа Карташихин ушел, раздосадованный, недовольный собой. Для него было ясно, что Трубачевский расстроен, подавлен и, главное, задумался. О чем? Быть может, о самом важном в жизни? Так нечего же было кричать на него, как будто он, Карташихин, так уж ясно представляет себе это «самое главное в жизни»! Напротив, нужно было подойти издалека, осторожно и не смеяться, например, над десятой главой «Онегина», а рассказать…
И, остановившись у подъезда, Карташихин сердито хлопнул себя ладонью по лбу. Нужно же было рассказать ему об этом подозрительном разговоре, который он нечаянно подслушал, когда был у Александра Николаевича Щепкина! Тогда этот неприятный Неворожин принес старому Щепкину какие-то рукописи — на продажу? — они говорили об Охотникове, а ведь Охотников — это тот самый декабрист, которым, кажется, занимался Коля? Вернуться, что ли? Но он вспомнил, с каким напряженно равнодушным лицом провожал его Трубачевский, — и не вернулся.
6Он собрался к Льву Иванычу в два дня. В институте, получая литер, он встретил Виленкина и объявил ему, что едет в город, которого нет ни в одном энциклопедическом словаре и ни на одной карте.