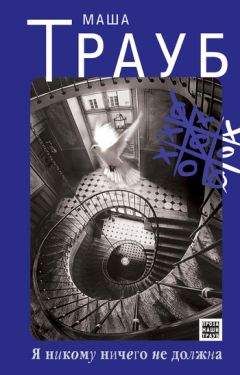Елена Серебровская - Весенний шум
Был третий день Машиного пребывания в больнице. В полдень нянечка принесла записку от Гриши Козакова, комсорга группы. Гриша поздравлял ее с дочкой и сообщал:
«Вчера у нас было факультетское комсомольское собрание. В разном слово взял Сашка из факультетского бюро и громко изрек: «Товарищи! Вчера у нашей комсомолки Маши Лозы родилась дочка весом в четыре килограмма! Пошлем Лозе наше коллективное поздравление!» И все зааплодировали, зашумели. В общем, здорово получилось. Имей в виду, ты на белом свете не одна. Жму руку. Гриша».
К записке был приложен еще один кекс с изюмом. «Куда я все это девать буду? Сушить, что ли?» — подумала вслух Маша, убирая гостинец в тумбочку.
В палату вошел главный врач. Обход давно уже закончился, и появление главного врача было неожиданным.
Он остановился у двери и оглядел палату, словно искал кого-то.
Плотный мужчина лет сорока, в белой шапочке и белом халате, крупный и плечистый, он больше походил на молотобойца, чем на врача. Но Маша знала, что он хороший хирург. Любит свою специальность, очень заботлив, и детей любит. Своих у него нет, хотя он женат. Последние подробности рассказала дежурная нянечка, — она все знала о врачах.
— Вы — Лоза? — строго спросил главный врач, найдя глазами Машу. — Пожалуйста, предупредите своего мужа, чтобы больше он таких штук не выкидывал.
— Какого мужа? — спросила Маша с искренним удивлением.
— Вам лучше знать, какого. Полагаю, он у вас один, — сказал так же строго главный врач и вышел из палаты.
Наступила тишина. Женщины обернулись к Маше и смотрели на нее.
— А что он сделал, твой муж-то? — спросила одна из соседок.
— Понятия не имею, — ответила Маша.
— Вот гляжу я, женщины: у всех нас мужья не худые, все несут чего-нибудь и письма пишут, — сказала самая старшая, — у нее был уже четвертый ребенок. — А у нее, у Лозы, муж самый заботливый: и несет, и несет, нет на него угомону.
— Да нет у меня мужа! — воскликнула Маша с горечью в голосе. — Это мне родственники несут, подруги, товарищи по учебе. А мужа нету.
— Нету? — с недоверием повторила старшая женщина. — А главный-то о чем говорил? Твоего мужа поминал, не другого какого.
— А я и сама не знаю, о ком это он. Честное слово, не знаю.
— Да ты не стесняйся, — включилась вдруг дежурная нянечка. Она всегда появлялась в палате, как только начинался разговор на такие темы. — Ты не стесняйся. Может, вы не записаны, так это дело наживное. Важно, что он к тебе хорошо относится, отец ребенка-то.
— Не знаю, он ли. Никакой записки не было.
— Постой, я сбегаю. Может, принести снизу некому. Может, тебе там целый кулек лежит. Я мигом.
И нянечка затопала по лестнице вниз, где на первом этаже принимали записки и передачи. Нянечке было интересно не меньше, чем самой Маше.
Действительно, она появилась вскоре с большим пакетом и запиской в руках. Вручив всё Маше, она степенно отошла в сторону и села на белую табуретку. Пусть человек прочитает сам, посмотрит все. А потом и расскажет — все же интересно.
Развернув записку, Маша с разочарованием заметила, что это не от Маркизова. Разве он догадается! И цветы были тогда не от него, и теперь вот эта записка — тоже не от него.
Записка была от Оси:
«Здравствуй, Машка! Приношу свои поздравления по поводу маленькой Лозы. Очень хорошо, что девочка. Страшно люблю девчонок всех возрастов, начиная от двухдневных и кончая твоими годами.
Я хотел достойно отметить твой подвиг, но ничего не вышло. Сообщаю по порядку: я приволок сюда корзину живых цветов — белые астры, очень красивые, махровые — все равно не увидишь! Бесчувственная мегера в окошечке заявила, что цветы нельзя, что через цветы можно занести инфекцию и прочее, и прочее. Я просил, унижался, я безбожно врал ей, что это не от частного лица, а от профкома университета, — ничего не помогло! Что мне оставалось делать? Я подарил эти цветы ей, этой старой ведьме, — не нести же их обратно, на улице зима, мне их заворачивали в три слоя бумаги. Отдал ей кулек-передачу, хотел отдать приготовленную записку и передумал.
В стороне от этого окошечка — раздевалка. Я отошел к раздевалке и вижу — вваливается толпа студентов. Практиканты! Снимают пальто, получают белый халат и идут наверх… Номер твоей палаты я знаю. А мегера в окошечке объяснила, что навещать все равно никого не пускают, только к тяжелобольным.
Снял я свое пальтишко, протянул руку за халатом — дали! Натянул его так же, как и они, застежки сзади, и иду следом. На вешалке подумали, что я студент, студенты подумали, что я врач, никто не волнуется, все чу́дно. Зажал я в руке свое письмецо к тебе, топаю. На втором этаже смотрю номера палат — вторая, третья, четвертая. Твоя палата седьмая — иду дальше. А студенты все подались в третью. Ну, я голову в плечи втянул и топаю дальше. Мне седьмую надо.
И вдруг здоровенный дядя в белом халате и шапочке останавливает меня и спрашивает: «Вы, товарищ, куда?» А я, понимаешь, замялся, опыта по вранью мало, не знаю, что сказать, вру что-то, да видно нескладно. Он смотрит на записку, что я в руке держу. «Позвольте,» — говорит, берет ее и смотрит, что написано. А там твоя фамилия, номер палаты… Он записку мне вернул, да так отчитал, так обласкал, что я еле выход нашел. Отдал халат, получил пальтишко и сел новую записку писать. Когда не везет, то не везет во всем. А дядька этот, свирепый — ваш главный врач. Я привык думать, что главные в кабинетах сидят, а этот бегает по всей больнице, как соленый заяц, все ему надо!»
Женщины с нетерпением ожидали, когда она прочтет и поделится с ними. Маша пересказала им содержание письма, а последние слова о главном враче прочитала вслух.
— Нет, наш в кабинете не сидит, не на такого напали, — сказала нянечка, довольная отзывом о главном враче. — Он другой раз и домой не пойдет и пообедать забудет. Всю ночь сидит, бывало. Пойдет, посмотрит, распорядится, а потом сядет в коридоре на кресло и подремлет минут с двадцать. И опять в родилку.
— Значит не муж, — сказала та, что была всех старше. — А видно, парень любит тебя… Да не утаиваешь ли ты чего, не его ли это ребеночек? Не часто бывает, чтобы чужие так заботились.
— Они теперь не ценят этого, молодые наши, — сказала нянечка. — Не знают, каково нам приходилось, в старые-то времена. У меня вот сын… Инженер он, на Путиловском заводе работает, теперь Кировском. Красивый мужчина с личности и умный. Он видный собой, не в меня (нянечка была маленькая и сухонькая), все уважают его… А ведь он незаконный у меня. Незаконнорожденный.
Эта старушка произвела на свет красивого большого мужчину? Интересно! Женщины приготовились слушать.
— Я ведь в этой больнице тридцать лет работаю, — продолжала нянечка. — А сыну моему двадцать семь. Отец-то его из богатеньких был, они булочную имели на Гороховой, родители его. Меня он очень уважал, любил, а мать как узнала, в чем дело, приказала оставить меня — не пара, простая санитарка в больнице. Ну, конечно, невесту ему нашли подходящую, повенчался он и уехал с ней в Ригу. А я по нему так томилась, так томилась, и сказать нельзя. Мальчик родился, а все забыть не могу, что было. Узнала, где он в Риге живет, на какой улице и номер дома. И не вытерпела, накопила денег на билет и поехала в воскресенье, а ребеночка на соседку бросила.
Вот пришла на ту улицу и дом нашла, такой невысокий беленький дом с балкончиком, легонький, словно дача. Стала я на другой стороне улицы и жду, а самой стыдно да и страшновато. Час ждала и два ждала, не выйдет ли. Все не шел он. И ждала я до самого вечера не евши, все боялась пропустить, не вышел бы он. Так он и не вышел. Только раз в окошечке показалось мне лицо знакомое, — тюлевую штору отодвинул и посмотрел, наверно; хотел узнать, какая погода. Пополневши был, посолиднел, как свою семью завел. А раньше был он быстрый такой, худенький. Прибежит, бывало, принесет леденцов либо калачика — «Кушай, Дусенька, кушай, золотко мое!» Вот тебе и золотко. Не узнал меня, даже не заметил. А потом скоро и революция началась, война гражданская, голод. Как я в те годы сына выхаживала, как на ноги ставила, — никто не знает. Мне кексов с изюмом никто не носил.