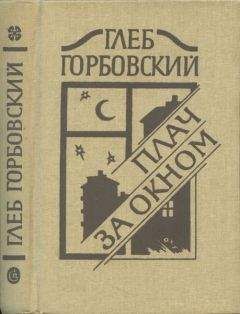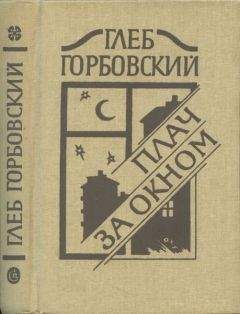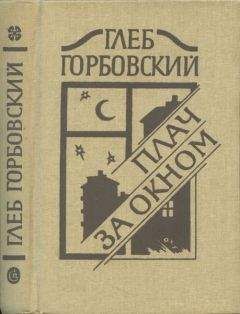Глеб Горбовский - Феномен
— Издеваешься? Вот-вот! Дослужился! До состояния чурки. Темней леса. Любой шкет за пояс заткнет. Только и слышишь: Булгаков, Пастернак, Маркин!
— Не Маркин, а Маркес. Колумбиец. Живой классик. Ну, пока, Потапов! Побежала… Не унывай, директор!
— Постой! А джинсы?
— Опять?! Ты что, сам не в силах попросить, в конце концов?!
— Неловко как-то.
— У Сергея… Короче, ты что, не в курсе? Он не один!
— Кто же у него?
— Женщина. Тс-с!
— Да? И… давно?
— С вечера.
В свое время, а точнее — восемнадцать лет тому назад, Потапов, впервые отдыхая на юге по профпутевке, случайно набрел на необычную, по его тогдашним понятиям, девушку. Он разглядел ее на Золотом пляже под Феодосией среди тысяч поджаристых тел, одинаковых в своей узаконенной обнаженности; взглядом выхватил ее из толпы, будто камушек морской, взору угодный, — из прибрежной россыпи. Было ей тогда девятнадцать. Она лежала на песке, бледно-розовая, не худая, просто изящная, с задранным, устремленным к солнцу подбородком, со строгим, словно прикушенным изнутри, ртом и — что совершенно изумительно — с лицом свежезаплаканным! То есть — несчастная на празднике плоти. Чем привносила в этот праздник элемент духовности. Страдание, нарисованное на человеческом лице и не смытое курортной волной, просвечивающее сквозь улыбку, предполагает глубину чувств. Это и остановило неискушенного в обхождении с женщинами Потапова. А остановив, не отпустило.
На первой стадии знакомства с будущей женой Потапов едва не оскандалился. Розовая, необычайно нежных, перламутровых оттенков кожа Марии излучала энергию, которая мгновенно исказила в мозгу Потапова течение мыслей, повредив там какие-то центры, узлы, сместив точки опоры: Потаповым овладело непреодолимое желание — немедленно прикоснуться к этой обиженной и, вместе с тем, высокомерно-восторженной коже, дотянуться до нее хотя бы одним пальцем. Ткнуть и сразу отпрянуть. Исчезнуть с пляжа, с юга, вообще — с земной поверхности. Но прежде — непременно прикоснуться. А там — хоть в смирительную рубашку наряжайте!
И Потапов ткнул. Не сильно и все же опрометчиво. Мария широко открыла рот и почему-то не закричала. Маленький рот ее долго не закрывался, и Потапов отметил для себя, что и во рту Марии все розовое, даже зубы. На теле Марии от пальца Потапова образовался волдырь.
— В-в-вы, вы — садист! — яростно прошептала Мария, стараясь не привлекать постороннего внимания. — Чем это, папироской, да? Медведь неуклюжий…
— Извините ради бога! Затмение нашло. А если честно — развеселить хотелось. Не знал, что вы такая нервная. Смотрю — тихая, грустная девушка загорает. Кто вас обидел?
Тощий Потапов демонстративно раздул некоторые мышцы рук и ног. Напружинил длинную шею, подчеркнул линии выпуклой груди и впалого живота. Кувырнулся к ногам девушки в земном поклоне и попытался отжаться от земли, кое-как сделав непрочную — былинка на ветру — стойку на руках. Короче говоря, осмелел, надеясь тем самым сгладить конфуз, произведенный «касанием».
— У меня умер муж, — заговорила как бы сама с собой, задумчиво, без лишних эмоций. — Погиб на дороге. «Запорожец» всмятку.
Наступила неловкая пауза, потому что Потапов ожидал всего, чего угодно, только не этого.
— Не верите?
— Почему же… Хотя… Неужели у вас был муж? Значит, вы — совершеннолетняя? Простите за глупый вопрос. Вы такая розовая… Еще раз простите. Чепуху несу.
— Нет, почему же. Муж или почти муж. Мы жили с ним. Свадьбы, правда, не успели сыграть, но заявление подали. В магазин для новобрачных приглашения получили. Родители Николаю «Запорожец» подарили. Он поехал за стульями в мебельный и разбился. «Запорожец» всмятку. Представляете? Две недели тому назад.
Более всего поразила Потапова фраза про «Запорожец» всмятку. Явно чужая фразочка, не ею первоначально произнесенная, но впечатавшаяся в ее мозг огненным клеймом. Она-то, фразочка эта, и заставила Потапова мгновенно поверить в искренность слов девушки. Поверить и содрогнуться.
Мария тогда на пляже жестоко обгорела. Потапов бегал в аптечный ларек за одеколоном и кремом. Девушку, отдыхавшую от несчастья, не пощадило даже солнце. И Потапов, не задумываясь, предложил ей все, что имел: силу, внимание, улыбку, сердце и наконец — руку. Предложил, хотя и сумбурно, но ласково, потому что знал: обгорела девушка не столько снаружи, сколько внутри.
Мария не прогнала Потапова. Она его стерпела. Сперва — как дополнительную боль (больнее всего — боль первая, все последующие боли как бы разбавляют собой предыдущую), затем терпела его как лекарство или средство, смягчающее, охлаждающее, затягивающее — успокаивающее.
Для самого Потапова на всю дальнейшую жизнь Мария так и осталась розовой (не от понятия «кровь с молоком», но как бы от ожога). Она постоянно затем пылала, горячилась, кипела. Кожа ее на ощупь была всегда жаркой, от прикосновений моментально покрывалась яркими пятнами.
По прошествии лет Потапов незаметно для себя в общении с женой стал осторожничать, боясь, в свою очередь, непоправимо обжечься о ее лучезарное сердечко. Чаще всего помалкивал, проскальзывая мимо Марии к себе в комнату или выскальзывая на работу, в чуждую ему деловитость, которая хотя и была чуждой, но обнимала плотно, от прикосновений не вздрагивала и не краснела. Помалкивал, проскальзывал, бежал и вдруг понял: зарвался, перехватил, ибо сделался одинок даже дома. И тут на глаза попались книги. Книги, обступившие его и одновременно незримые, нависшие над ним, как небо, которое горожане чаще всего не замечают, глядя себе под ноги, чтобы не поскользнуться. Книги, которые, если их попросить, подскажут, что спастись от одиночества можно лишь в себе, не в своей комнате, но в просторах вселенной духа — вселенной куда более необъятной, нежели космос со всеми его звездами, планетами, болидами и прочей пылью.
Свою пляжную сговорчивость Мария оправдывала в дальнейшем чуть ли не с медицинской точки зрения, и прежде всего — обширным, в первую очередь нравственным шоком, в котором находилась после гибели жениха. Она считала, что увести ее в тогдашнем состоянии мог кто угодно, то есть любой, даже негодяй, и то, что увел именно Потапов, не самая худшая из случайностей. Потапову она была даже благодарна. За помощь, не за любовь. За любовь не благодарят, как не благодарят воздух за наличие в нем кислорода. Просто — дышат.
Сын у Марии родился через семь месяцев после ее пляжного «ожога». Ребенка объявили недоношенным. Потапов исподтишка приглядывался к новорожденному, пытаясь обнаружить признаки недоразвитости, и, не найдя таковых, затаил по отношению к сыну если не обиду, то хроническую настороженность. Восемнадцать лет прошло, а Потапов и сегодня при взгляде на сына (или на дверь его комнаты) впадает в мимолетное, как головокружение от папиросной затяжки, состояние растерянности. Короче говоря, не было у Потапова стопроцентной уверенности, своего ли он сына растил. Справиться у Марии не посмел. Только однажды, в разгар какой-то особенно молчаливой, яростно-тихой размолвки, когда решался вопрос о школьной медали Сергея, на скептическое хмыканье Потапова Мария ответила истеричным шепотом:
— Да не твой он, не твой, успокойся. И никогда твоим не будет.
— А… чей?
— И не мой. Ничей. Божий, ветром надуло! Из космоса… Сомневаешься, а ты поцелуй его. Да-да, поцелуй, обойми, к сердцу прижми! И сразу, дурак, поймешь, чей он. Ничего не любишь, кроме своего одиночества придуманного! А ты поцелуй, попробуй… Что? Кишка тонка?! И откуда только гордыня, столько гордыни у… сапожника, откуда?!
Сын и впрямь не был похож на Потапова, удался в мать. А в остальном — что ж, здоров, неглуп, симпатичен. Вот только холодноват в семье. Да и в кого ему горячим быть? Не скрытен — пренебрежителен. Как где-то в седьмом классе выскользнул из рук, так до сих пор и не заманить его обратно в друзья. Потапов догадывался, что Сергей презирает его за принадлежность к «административно-бюрократическому клану» (пятнадцать лет на унылых должностях зама по производству ликерно-водочного, парторгом стекольного и теперь вот — директора обувной фабрики), что Сергей водится с какими-то умниками, которые питают его гнусной философией отказа от семьи, общества, что сынок его что-то там такое почитывает с машинописных листов, что в Технологическом он изнывает от скуки и что держится он в институте благодаря отцовской фамилии. Нет, не блажью всполошившегося родителя, но пробудившимся долгом отца объяснял себе Потапов свои недавние действия, когда пришлось говорить с малознакомым полковником из военкомата, просить, чтобы взяли близорукого Сергея в армию до истечения отсрочки.
А в результате и сам Потапов не то чтобы не любит сына — побаивается его. Как побаиваются не тайны — секрета. В итоге — печаль.
Позже, когда Потапов пристальнее посмотрит на себя, когда над ним рассеются ветры сомнений и спадет нервная мгла с души, обмороженное безлюбьем сердце Потапова ощутит в отношении своей неудачной семьи подобие благодарности — за толчок (или пинок) в сторону обретения Потаповым себя, или свободы, что одно и то же. Но это — потом. А сегодня в мыслях… снотворные таблетки, призрачные, книжные, вернее — телеэкранные цыгане, сами книги, глыбистой, еще недвижной лавиной нависшие над его диваном, божьи коровки, джинсы, вздорные мысли и все остальное…