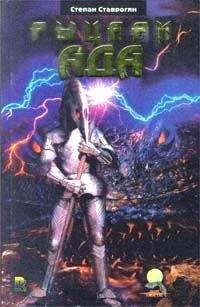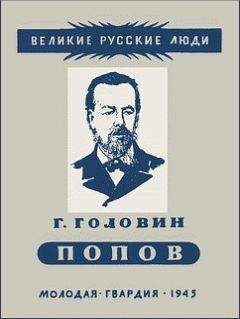Глеб Горбовский - Шествие. Записки пациента.
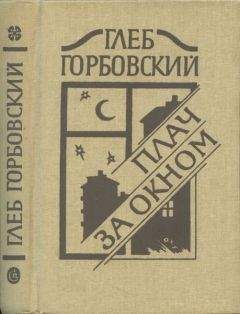
Обзор книги Глеб Горбовский - Шествие. Записки пациента.
Глеб Горбовский
Дорогой читатель!
Цена этой книги на 20 копеек выше номинала. Покупая ее, ты вносишь эти 20 копеек в Детский фонд имени В. И. Ленина.
ШЕСТВИЕ. Записки пациента
1
В клинике на отделении доктора Чичко все мало-мальски пришедшие в себя больные пишут воспоминания. Исповедуются лечащему врачу: «С чего началось?.. чем кончилось?., что способствовало?» и т. п. Вот и я пишу эти мемуары по просьбе Геннадия Авдеевича, вспоминаю характер своей болезни, дозволяю производить над собой опыты — чего не сделаешь ради науки. К тому же составление записок увлекло, вернее — отвлекло от больничной скуки, от душевных судорог.
Для начала несколько слов, предваряющих записки. Я интеллигент в первом поколении, и все же не знаю, ради чего склоняет меня к писанине уважаемый Геннадий Авдеевич, однако догадываюсь: не только в интересах моего, конкретного, выздоровления, но и в поисках некой психической тайны, которой якобы обладают пьяницы. Хочет ли он таким образом (методом?) освободить меня от последствий пережитого бреда или проверяет, насколько у подопечного сохранился (разрушился?) интеллект, как знать, не могу судить. Я знаю, что страдал хроническим алкоголизмом, завершившимся белой горячкой. Знаю об этом от Геннадия Авдеевича, которому безгранично доверяю, а также из опыта и остатков собственной памяти, которой доверяю куда меньше.
И все же речь в записках пойдет не столько о болезненных ощущениях, сколько о смысле пережитого, о последующем анализе видений, которые навлекла на меня болезнь, о том своеобразном «театре теней», где довелось мне побывать. Не называю случившееся со мной сумасшествием. Назову — происшествием (от слова «шествие»?), так как твердо убежден: было это движением. Движением духа. В сторону раскаяния.
Я не помню, как это началось. Предполагается, что возле телевизора, которого теперь интуитивно остерегаюсь. Скорей всего, в один из «подпольных», похмельных вечеров лежал я на койке у одной доброй женщины, Инги Фортунатовой, перед ее стареньким телеком, и смотрел кино, как вдруг, сперва на экране «ящика», затем, буквально перед глазами, в стереоэффекте возникла эта дорога! Дорога, по которой нескончаемым потоком двигались люди.
Что это было? Галлюцинации? Сон длиною в вечность? Или явь, спроецированная на меня каким-то образом из далекого прошлого, — одному богу известно. И сколько оно длилось, это кино — краткий миг, долгий час или бесконечные сутки, — не имею понятия. Знаю лишь, что за время просмотра этого «фильма» мой воспаленный мозг впитал в себя массу концентрированной информации, перелистал сотни сюжетов, нарисовал на своей обожженной алкоголем поверхности тысячи образов, которых настоящему писателю или художнику хватило бы не на один том воспоминаний или зарисовок в альбом.
Я же на лечебное сочинительство согласился в основном из-за больничной малоподвижности, тоски и еще потому, что для этой работы Чичко предоставлял мне по вечерам свой кабинет, где можно было не только уединиться от страждущих алкашей, но и блаженно растянуться на казенном дерматине.
Себя в записках обозначаю под вымышленным именем сознательно, чтобы не вводить в заблуждение родственников и друзей, случайно ставших читателями этих записок. Мои анкетные данные наверняка занесены в историю болезни. Это — для любопытных.
И здесь не лишним будет заметить, что алкоголиками становятся не только грузчики, сантехники, слесари или колхозные трактористы, но и великие писатели, композиторы, артисты, художники, военачальники, а также врачи-наркологи и даже партийные работники, не говоря о типах вроде меня, ранее преподававших детям историю.
Однажды, когда кризисное состояние моего мозга было уже позади, Геннадий Авдеевич в беседе со мной в числе причин, способствовавших развитию болезни, упомянул женщину. Не конкретное женское имя, а так, вообще. Дескать, не по Зигмунду ли Фрейду следует толковать возникновение моего недуга, завершившегося частичной потерей памяти?
Вопрос этот, коснувшись моего мозга, произвел в нем как бы электрический разряд, и я мгновенно вспомнил не только женщину, но и многое другое, связанное для меня с понятием «шествие».
Теперь-то я знаю: врач, заведя разговор о женщине, интересовался отнюдь не розовой дамой, что пригрезилась мне на дороге во время болезни; просто Геннадию Авдеевичу хотелось побольше узнать о больном, не исключая сведений интимного характера. Только и всего.
И надо же как дивно получилось: вспомнив женщину, вспомнил я и все остальное.
— Знаете, — обратился я к Чичко, — была там одна особа. Но поймите меня правильно: женщина эта не могла меня любить. Ни меня, ни кого-либо еще. Потянулся я к ней безотчетно. Преследуемый запредельным одиночеством. Той разновидностью одиночества, которое мы испытываем, находясь в толпе. Потянулся, потому что был несовершенен. И еще потому, что незнакомка в розовом отдаленно напоминала мою жену. То есть женщину, которая меня любила. В свое время. То есть наиболее ощутимую из сердечных потерь.
Геннадий Авдеевич, выслушав мое признание, положил на колено блокнот и что-то в него записал. А я, взбудораженный воспоминаниями, продолжал видеть женщину. Как величественно продвигалась она по дороге, ведущей одних к совершенству, других — к погибели, третьих — к раскаянью. Нет, вовсе не от распущенности, а из-за въевшейся в кровь привычки любить женщину пуще библейского «ближнего» обратил я на нее внимание в условиях дороги. Из-за своей несвободы от прежних влияний и прочих признаков житейской суеты.
Кстати, о трезвой последовательности изложения событий в записках: не ждите ее от меня, от человека, мягко выражаясь, уставшего душой.
Хватило бы только смелости вспомнить эту Дорогу.
И еще: на днях изможденный и молчаливый Лушин, затаившийся в палате, как прошлогодняя муха между оконными рамами, внезапно вышел из своего угла и с треском распахнул запечатанное на зиму окно. И оказалось, что на улице давно весна, и не только весна, но как бы иная атмосфера: воздух был не просто свеж, но и целителен, и необыкновенно вкусен, а главное — манящ. Он сулил перемены, и все в палате моментально обеспокоились. Особенно те из нас, кто читал газеты. Я газет уже не читал. Вернее — еще не читал. Но к свежему воздуху потянулся. Тут же в палату заглянула «дежурненькая» и, мрачно улыбаясь, захлопнула окно.
— С ума посходили, стерильные вы мои! Думаете, коли больные, так ничем больше не заболеете? Враз прохватит…
Никогда прежде не видел я таких широких дорог: километра два в поперечнике. Если не более того. Однажды, в самом начале пути, попытался я пересечь движение, лавируя среди идущих птиц, людей, собак, лошадей, кошек и прочей живности, но так и не добрался до противоположного края дороги. Без конца озирался, и все время как бы сносило водой. Затем желание постичь масштабы дороги притупилось. Возобладало восхищение. Восхищение происходящим.
Нет, я не оговорился, сказав, что на дороге, в лавине движения, птицы именно шли — шли, а не летели на крыльях по небу. Вспоминаю, отчетливо вижу, что так оно и было: семенили трясогузки, переваливались, ковыляя, голуби, скакали сороки, галки, бежали дрофы, павлины, страусы, ползли коротконогие ласточки и стрижи, помогая движению пыльными крыльями.
Шествие людей на дороге напоминало шествие военнопленных немцев по улицам Москвы, заснятое на кинопленку и не единожды показанное по телеку в документальных программах. Мешанина лиц — уставших, смущенных, страдающих, любопытных, опустошенных, нагловатых и даже надменных. Но как серые одежды красили этот поток в однообразный заунывный цвет, так всеобщая участь пленников придавала этому потоку печальный колорит обреченности, покорности, утраты прежнего воинственного легкомыслия жизненных гуляк и смертельных проказников.
Покрытие на гигантском шоссе было необычным: ничего традиционно асфальтового, бетонно-булыжного или гравийного. Трещинноватый монолит. Трещины мизерные. Через них запросто перешагивали мелкие птицы, такие, как малиновки или мухоловки.
Тогда, в первые часы продвижения, я все еще пытался выяснить, с какой стати среди идущих очутился я, Викентий Мценский, человек, до недавнего времени «стационарный», оседлый, преподававший детям историю — предмет, внешне малоподвижный, как бы с окаменевшей, отжившей структурой? И, поразмыслив, отвечал себе так: старик, не суетись, не твоего ума дело. И утешал себя следующим образом: задаешь вопросы — значит, живешь, а не просто переставляешь ноги. А преподавать ли тебе в дальнейшем историю или производить на шоссе дорожные работы — не имеет значения. Сложней с вопросом: как теперь жить, по каким установкам, ибо жить по-прежнему было нельзя да и не имело смысла. Тем более что история не предмет, она закон памяти, божий закон.