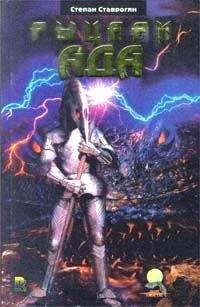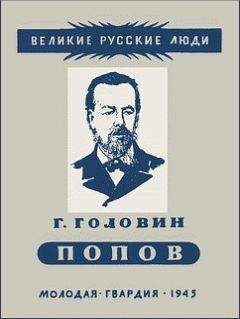Глеб Горбовский - Шествие. Записки пациента.
— Пощадим Викентия Валентиновича. Он и так, можно сказать, подвиг совершил: с того света вернулся.
Но «запорожец» не унимался. Видимо, в рассуждениях Мценского что-то профессора основательно зацепило.
— Чем намерены заняться после излечения? Ваша специальность?
— Откровенно говоря, никакой специальности не имею. Судя по документам, работал учителем истории. Не хуже меня про то знаете небось. Но иногда мне сдается, что работал я не в школе, а в вытрезвителе, медбратом. Это потому, что я там неоднократно содержался. Произошло слияние восприятий, или как там по-вашему, по-научному?
— Ваши любимые книги? — внезапно поинтересовался Христопродавцев, по-свойски подмигнув Геннадию Авдеевичу.
— «Капитал» Маркса и Ветхий завет! — выпалил Мценский, не раздумывая. — Это что — тест? Вообще-то я все книги люблю. Без разбору. Даже отъявленную макулатуру. Запах книжной бумаги обожаю. Не читаю, но как бы вдыхаю премудрость. А эти две книги… они не литература, а нечто сверхъестественное. Тайна бытия, расчлененная надвое. И на земле именно тогда наступит гармония нравов и философского поиска, когда эти две книги сольются в одну. То есть увидят свет под одной обложкой всечеловеческой любви.
В помещении, где заседала медкомиссия, на лицах присутствовавших возникло замешательство. Казалось, бело-муторный, стерильно-казенный туман еще более сгустился.
— М-мда… И все же кем решили работать в дальнейшем? — взмахнул председатель усами.
— Еще не решил. На первых порах — расклейщиком газет, а может, маркером в бильярдной Дома писателей. По радио приглашали кандидатов на эту должность. Или банщиком — чеки на металлический штырь накалывать. Могу и в школу, только теперь — в сельскую… Вот Геннадий Авдеевич присоветовал в Новгородскую область. Там теперь Нечерноземье поднимают. Мертвые деревеньки на ноги ставят. Одно знаю: в вытрезвитель больше не попаду. Забыл я туда дорогу.
— Ой ли?! — шевельнул усами «запорожец». — А если вам предложат вести в школе, ну, хотя бы историю Древнего Рима?
— Откажусь. Если в городской школе.
— А что… не потянете?
— Я хочу отдохнуть. От всяческих историй. Даже от самых древних, безвредных. Вообще от прошлого отдохнуть, остынуть… И пускай оно вас не смущает, это мое желание. Хочу пожить настоящим; без философских, иссушающих мозг, туманов. Без интеллектуального напряжения. Вернее — перенапряжения. Ибо считаю отныне: подлинная свобода — в неволе, в рабстве служения ближнему, в житейских подвигах, которые принято называть мелочами. В добывании хлебушка насущного, в трогательных до слез квартирных склоках, в промозглых извивах чахоточного города, в конкретных придорожных камушках, прикладбищенских сосенках и церквушках, в речках, наглотавшихся современного мазута, в сладком запахе горькой полыни, в заурядном, а не в изысканном! В доброй встречной улыбке, в пыли и лужах, а не в домыслах-помыслах, уводящих по дороге возмездия (или совершенства) в пустыню мировоззрения. Хочу домой! В старинную петербургскую коммуналку! Просто — в здание, а не в мироздание. Не примите мои откровения за бред или вызов, дорогие товарищи медицинские работники. Я трезв, как никогда. Просто — хватит с меня головоломок. Иду… жить! Благо такая милость предоставилась вновь. Понятное дело — иду, если отпустите. С миром — в мир. С прошлым покончено, как вот с пьянкой.
— Неужто? — прикусил председатель концы усов.
— Бог свидетель! — прослезился Мценский.
— Да-да, покончено, — твердо, как печать поставил, подытожил Геннадий Авдеевич Чичко затянувшиеся дебаты. — И не бог тому свидетель, а я.
Так Викентий Мценский, пятидесяти лет, в первых числах июня был выпущен из больницы за полным излечением от белой горячки (не от ее последствий) и «приступил к исполнению человеческих обязанностей».
Причисление Мценского к здравомыслящему большинству оформили документально, выдали ему взамен больничного халата узелок с малознакомыми носильными вещами, в которые Мценский мучительно долго переодевался, блуждая в забытой одежде, как в чужом городе. Одежда была великовата и пахла дезинфекцией. Вместе с одеждой вручили Мценскому паспорт, снабдили медицинской справочкой, а также рецептом на успокоительные пилюли.
Остаточным явлением недуга можно было считать ослабление памяти, проявлявшееся в частичной утрате именно тех событий и обстоятельств, что предшествовали водворению Мценского в нервную клинику. Забывчивости своей Мценский ни перед кем не скрывал, а Геннадий Авдеевич Чичко считал ее обратимой. Возвращаясь в утраченный жизненный уклад, память Мценского будет как бы просыпаться, предположил нарколог, что, в общем-то, и подтвердилось в ближайшем будущем.
В жаркий летний день Мценский очутился за воротами клиники. На его остроугольных плечах висело «февральское», сейчас, в июне, совершенно никчемное, сильно поношенное демисезонное пальтишко как бы с чужого плеча. На пегой, в седых подпалинах, коротко остриженной голове — зимняя меховая шапка-пирожок. Как бы с чужой головы. Под пальто — заповедный, как бы неразменный блейзер с блестящими пуговками.
— Приятный пиджачок подарила мне Тоня, — улыбнулся Мценский, причем верхняя губа у него задралась к носу, как это случается у лошадей, обнажив бледные натруженные десны. Он еще острее, глубже обрадовался, вспомнив имя жены. Пиджачок словно бы потянул за собой вспоминательную ниточку. Мценский мысленно поблагодарил пиджачок.
Спешить ему было некуда. Впереди — неизвестность. Это все выдумки, будто люди, завидев или ощутив неизвестное, начинают к нему бессознательно стремиться. Тяга в неведомое имеет место разве что в творчестве, в научном поиске. В быту все несколько иначе. Простым смертным не свойственно воодушевляться… ничем, то есть химерой, мыльным пузырем. Простого смертного необходимо поманить чем-либо существенным. Хотя бы словом. Что, как не слово, связует материю с духом, единит в человеке нетленное с природным? Возникая из ничего, оно, материализуясь, раздвигает наши зубы и губы, врывается в мир земной, сотрясая воздухи и барабанные перепонки.
Среди тысяч и тысяч слов, которые роятся в человеческой голове, есть слова высокие, есть повседневные, обыденные, есть и низкие, грязные — слова-плевки, слова-огрызки. Мценский, составляя для Геннадия Авдеевича записки, не единожды спрашивал себя: каково же самое главное слово? Как звучит оно на русском языке? Любовь? Солнце? Бог? Истина? Жизнь? И сразу же вспомнил, как препирались там, на дороге, в стремнине всеобщего шествия, два пожилых человека в помещичьих сюртуках и панталонах с зелеными лампасами. И самым популярным словом в их диспуте было несчетно раз повторяемое слово «истина», приправленное эпитетами «абсолютная» и «относительная». Один из спорщиков, в суконной фуражке с оранжевым околышем, наседая на партнера в широкополой шляпе, выкрикивал «узким», пронзительным голоском, нещадно грассируя: «Все в мигр-ре относительно! Дуг-р-раку ясно: абсолютной истины нет! Абсолютная истина — Бог! А Бога, пагр-рдон, никто еще не наблю-дал-с!»
«Искупление — вот моя теперешняя истина! — восторженно подумалось Мценскому. — Была болезнь. Мучительная, унизительная, мерзкая, разъедала душу и плоть. Болезнь увела меня за пределы ощутимого, прогнала этапом по запредельной дороге, на которой, в отличие от путей земных, конец предопределен, всем и каждому навязан заранее, что гораздо мучительней тайны. И я, чтобы ничего не забыть, ни от чего не отвыкнуть, украдкой нюхал веточку полыни, бередя в сердце любовь к земным истинам. И меня вернули. И вот я опять свободен. То есть — живу любовью ко всему живому. А прежде, до осознания вечного пути, только с ужасом медленно умирал. Ожидание смерти — не есть ли сама смерть? И тогда ожидание жизни — жизнь. Итак, искупление! Все лучшее, загубленное во мне болезнью, должно восторжествовать в любви к настоящему!»
Мценский минут пять не мог «отклеиться» от медицинского заведения, касаясь его дверей занывшими, трепетными лопатками, на которых теперь прорастали крылышки утверждения в истинности воскрешения. Он все еще боялся, шагнув, тут же упасть, провалиться в беспамятство, вынестись вновь на дорогу небытия. Но даже если ничего этого не произойдет и сам он благополучно удержится на поверхности планеты — не растворятся ли его благие намерения в просторах дарованного пространства от первого же соприкосновения с одной из пылинок обретенной свободы?
Отделившись от ворот, Мценский напряженным, ходульным шагом двинулся в глубь улицы, угадывая в конце кудрявой, утыканной густо-зелеными липами перспективы дыхание широкой реки, напоминавшей своими гранитными берегами гигантскую рукотворную ванну.
Неуверенно продвигаясь по набережной Невы, Мценский обстукивал взглядами сизое небо, разноцветные старинные дома, как бы с разбега остановившиеся возле непреодолимой реки, ласкал глазами корабли, приткнувшиеся к гранитным граням берегов, узнавал, словно позабытые радости детства, птиц, и прежде всего крикливых чаек, снующих в двух стихиях — воде и воздухе; заглядывал в глаза незнакомых людей, и люди нравились Мценскому — все: и юные, свежие, сильные, и вдоволь пожившие, привядшие, расслабленные, с достоинством истинных героев прогуливающиеся по набережной знаменитой реки.