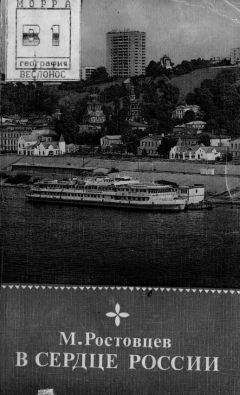Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
— А если не захочу на поруки?
— Не захочешь — кати с майором. Он давно таким вот мешочком интересовался.
— Сдадите все-таки?
— Сдам.
— А не напрасно ли, начальник?
— Ты что меня, пугать вздумал? Это ты брось, этим не возьмешь. Я не из пугливых.
Замолчали надолго.
Комлев вскипятил чай, кашу для себя варить не стал, буркнул:
— Чай готов.
Многояров кончил писать. Достал из мешка тушенку, поделил ее поровну, вынул сухари, сахар. Не глядя на Комлева, налил в кружку чай.
— Давайте рюкзаки поделим.
Многояров промолчал, но груз поделили поровну.
Шли берегом Авлакана, иногда углубляясь в тайгу и снова возвращаясь к реке. Прибрежные скалы тут несколько отступили, и образовавшаяся пойма густо заросла травою. Идти было трудно, путаясь в крепких, будто веревки, стеблях трав, но все-таки путь этот был значительно легче, чем тот, по калтусу.
Комлеву отчетливо припомнился весь тот день с самой побудки до ночевки у ключа Тунгус. Вспомнился соболь, которого гонял он, чай с кислицей, трудный подъем в скалы и тот страшный миг бессилия, и душный запах кирзы, шедший от сапога Многоярова, к которому прижимался он щекой, лицом, всем телом, вспомнился и страх, так запоздало пришедший там, у ручейка, и ощущение угрозы…
Вот она, угроза! Свершилось. Может быть, уже за этим поворотом встретят они Глохлова. И Многояров расскажет ему все. Передаст вещественное доказательство — кожаный мешочек с золотом. Озноб прошел по спине Комлева. А дальше? Дальше ясно — арест. Телеграмма спецсвязью в Москву. Обыск на квартире. Что они найдут на квартире? Что? — Комлев даже приостановился, слабыми от испуга стали ноги. — Найдут!.. Что найдут? Три собольих шкурки? Это ерунда. Камушки? Это коллекция. Они и лежат на виду. Три самородка? Но они крохотные, хранимые на память. Нет, это уже кое-что. Это ниточка. Достаточно установить, а это установят, где взято золото, и все… Черт дернул ввязаться тогда в эту историю, оказаться в «коллективе». Он всегда предпочитал в любом деле быть с самим собой, и только. А тут коллектив… Давно это было, сразу же на другой сезон за тем, когда спрятал в нагрудный карман первое золотишко. Он до сих пор не понимает, как мог вляпаться тогда в «мокрое дело». До сих пор бы шел розыск, если бы не случайный идиот, которого «замели» по подозрению в убийстве. На следствии он взял на себя их дело. Зачем? Так и осталось тайной. Но так ловко накрутил на себя, да так все точно разложил, что поверили. А своего убийства до конца на себя не брал — отпирался. Но в конце концов взял и свое и «до кучи» их на себе оставил. Отчет об этом деле — «Убийство геолога» читал Комлев в краевой газете, тогда модно было печатать «из зала суда». Помнил долго и фамилию этого, но вот забыл сейчас. Забыл. Нет, не должны докопаться до того дела. И тот, вероятно, давно уже где-нибудь сгнил. Не докопаются. Вот если бы только не Глохлов. Единственный человек, который страшен, по-настоящему страшен, — майор. Не то чтобы знает он что-то, но чувствует. Да и есть у него в руках небольшая улика. Получи в руки Глохлов этот вот кожаный мешочек, и все… Точно такой же обнаружили весной в год заезда их партии в Буньское. Была в этом мешочке малая щепотка золотого песку от прошлого сезона, оставленная для прибыли, — примета такая: на золото с золотом идти надо. Обронил он этот мешок в уборной, как, и не заметил. Нашли его ребята и сразу Многоярову, а тот в милицию, и Глохлову. Закрутилось дело. Глохлов весь район облазил; хозяина мешочка искал. С рабочими партии тоже беседы вел. Вот тогда и «повязались» меж собою Комлев и Глохлов. И слова меж ними не было сказано, а так вот сцепились взглядами. «Твой!» — сказал глазами Глохлов, и не смог тогда Комлев отвести от себя этот взгляд, не смог, как приковало…
И вдруг Комлева охватывает беспечная радость. «Не найдут! Ничего не найдут в квартире!» Он все-все перед отъездом в чемодане отнес Аркаше. Как же можно было забыть об этом? Ведь в квартире-то у них, и в его комнате, ремонт должны были сделать еще в июне. И сделали. Ничего нет в доме. Аркашу не найдут. Аркаша — тайна. Аркан вне круга. Никто и не знает об их дружбе. Все. Нет ниточки! Эх, жизнь, жизнь, сколько понавяжешь ты узелочков! Развязывать надо.
Комлев шел следом за Многояровым, заметно приотставая и уже не копируя его походку. Шел он, может быть, впервые по тайге сам, не ступая в след ведущего.
«Не-на-ви-жу, — твердил себе Комлев, шагая заросшей поймой, отстав от Многоярова. — Не-на-ви-жу».
Многояров — все! Комлев — ничто! Так ли это? Жизнь, она разные узелки вяжет. Может быть, это только кажется, что Многояров — все?! Может быть, это уже давно не так в жизни?! Может быть! Это так, пока не схлестнутся их дороги. А схлестнувшись, не разойдутся они, нет. Одна дорожка будет после встречи. Или — или! Кто сильнее, доказать надо! Жизнь разные узелки вяжет. Это еще неизвестно: кто — все, кто — ничто! Доказать надо! В жизни доказать, вот тут, в тайге.
Карабин оттягивал плечо, был он непривычно тяжел.
Снова выпал ведреный день, и солнце играло в небе. Нахолодавший за ночь воздух легок, тайга чистая, уютная. Сосенки карабкаются по скалистым крутоярам, лезут к вершинным останцам; с ветвей опадает и висит недвижимо серебристыми нитями мох. Сломился ветер, нет его, и только холода все скатываются и скатываются с сопок и тянутся к реке, припаивая ее к берегам. И Авлакан уже не умиротворенно ворочается в русле, хмурится старик, сводит суровые брови, гонит на берег тяжелую волну, плещет пеной.
Снова приостановился Комлев, всего на какую-то толику, а Многояров уже далеко впереди. Идет не спеша, но ходко, считает шаги, глядит цепко по сторонам — работает.
«Вот сейчас бы хлопнуть в затылок, — сухо разом стало во рту, мигом вспотели ладони, и ремень карабина в кулаке стал скользким. — А потом, потом что? Случайность… Стрелял по медведю… Патрон в патроннике… забыл разрядить…»
Трудно дышать Комлеву, горло окольцевала спазма. Многояров остановился, поднял лицо, разглядывает скалы. Все ближе и ближе подходит к нему Комлев, и шаг становится тяжелым, неуверенно ослизлым.
— Ну…
Лицо у Многоярова поднято к небу.
«Куда он смотрит?» — не может отвести свой взгляд Комлев от потного затылка Многоярова. Не может… Все застила, весь мир загородила непокрытая голова начальника партии. Волосы на затылке влажно слиплись, и в них матово рдеет редкая седина. «Сейчас… Сейчас или… — Комлев сглатывает набежавшую слюну, но странно — сухая она. — Сейчас! — решает и тянет с плеча карабин. — Вот он, Многояров, рядом… Сейчас… Чем ближе, тем больше веры в случайность. Окликнуть… и — в лицо».
Многояров услышал за спиной Комлева, сказал в полушепот:
— Видишь?.. — и оглянулся, почти наткнувшись на ствол.
Кляцнул затвор, патрон в патроннике…
— Вижу, — едва протолкнул слово и вскинул карабин наизготовку чуть выше.
Над ними, по скалистому срезу, медленно шел медведь.
— Не надо, — Многояров рукою отвел ствол, и Комлев опустил карабин. — На берлогу идет.
Медведь, высвеченный солнцем в пределе убойного выстрела, идет себе деловито, часто опуская к тропе морду. Комлева бьет дрожь. Во рту нет сухости, солоно и мокро во рту, из слабых десен сочится кровь, поют зубы и подергиваются желваки от пережитого только что напряжения.
Многояров присел на камень и, продолжая следить за медведем, достал из полевой сумки тетрадь. Сумка у него заметно припухла, в ней золото, кожаный мешочек с опоясками — улика…
День угасал, а они все шли и шли. Вырос и встал перед ними, рукою подать, синий, в фиолетовой дымке Уян. Белел он шапкой снежника, куржавился уже покрытой снегом вершинной тайгою. Перед заходом солнца остановились на очередной точке. Скалы тут ушли еще дальше от воды, освободив место тайге, и она, набежав с крутых спадов, остановилась вдруг, пораженная злой силой и простором Авлакан-реки.
Многояров присел под сосну, сбросил мешок и, упрятав лицо в расстегнутый ворот телогрейки от поднявшегося неожиданно понизового ветра, начал писать. Комлев присел в пяти шагах обочь его, привалившись рюкзаком к дереву и положив карабин на колени. Ствол карабина лег в сторону Многоярова. Комлев, заметив это, вздрогнул и переложил ствол на плечо. Но вдруг напрягся и почувствовал, что у него нет больше в теле ни дрожи, ни оморочи и в сердце нет боязни. Решимость вошла в него.
Как просто и ясно произошел несчастный случай. Многояров сел под сосну, и он, Комлев, тоже сел обочь начальника, положив на колени карабин. Потом, как это бывает на остановке, потянулся за кисетом, полез в карман и чем-то, наверное пуговкой, а может быть, и обшлагом телогрейки, зацепил спусковой крючок… Грянул выстрел (вот беда, он забыл вынуть патрон, который дослал на медведя). Комлев сначала даже не понял, кто стрелял, но пуля точно прошила висок Многоярову, и тот, не вскрикнув, мягко повалился на землю.