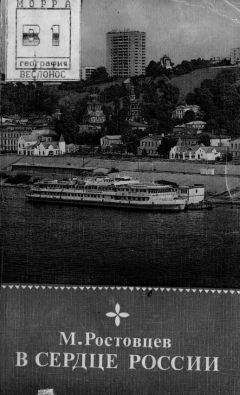Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
Жарко стало. Ну вот все и свершилось. Комлев, ощущая еще звон в ушах от выстрела, медленно повернулся.
Многояров, усунувшись лицом в телогрейку, писал, высоко подняв колено, на котором лежал дневник. Как белый глазок мишени, отсвечивал его висок. А чуть ниже темнела родинка, с белым завитком волоса.
«Мимо! Неужели мимо?! Но почему он не вскочил на выстрел?! Он не слышал выстрела, пуля прошла над головой! Надо взять ниже! Надо выцелить! Надо спустить курок. Ведь курок еще не спущен! Не был он задет ни пуговкой, ни обшлагом. Еще и кисет лежит в кармане. Выстрела еще не было! Но почему так звенит в ушах? А что будет после? Рухнет замертво! Надо будет закричать, подбежать к нему. Да, подбежать! Выхватить из полевой сумки мешок. И в тайгу, скорее в тайгу! К ручью! Обязательно к ручью! Нет, не к Авлакану — к ручью, в тайгу. Там, пробежав вверх по руслу, высыпать песок, весь до песчинки. Вымыть мешок. Потом сжечь! Обязательно сжечь. И пепел, и все-все уничтожить, уничтожить… А потом вернуться, стрелять в воздух, кричать и нести, нести на себе Многоярова к людям, к своему оправданию. Несчастье! Такое несчастье! Все поверят! И Глохлов поверит!»
Комлев не то чтобы встал на колено — опрокинулся. Весь он разом замерз, озябли руки.
«Надо согреться, согреться надо… Промаха не должно быть».
В прорези — мушка, на мушке белое пятнышко. Выцелил…
Комлев не слышал выстрела. Он только увидел, как вздрогнул Многояров и выпрямился. Словно бы ничего и не произошло, но Многояров вдруг откинул голову, обратив лицо к небу, и медленно сполз затылком по стволу сосны, ощелушивая сухую кору, потом мягко повалился на бок, прижавшись щекой к земле.
С минуту Комлев остолбенело глядел на него, сев на прежнее место и положив карабин на колени стволом к Многоярову.
«Пуговицей зацепился, пуговицей…» — твердил про себя. Потом встал, гулко ударился о землю карабин, скатившись с коленей. Комлев шел к Многоярову, ощущая всем телом усталость, такой усталости он не знал никогда. Ни страха, ни волнения, ничего не было сейчас в нем, только усталость.
Многояров лежал под сосной, на правом виске малиново сочилась взбухшая ранка, но левая щека уже подплывала кровью. Удивленный, нетронуто чистый живой глаз смотрел в небо, и в глубине расширившегося зрачка отражалась сухая былинка.
— Нечаянно я! Слышь, Алексей Николаевич, не нарочно. Случайно! — нагнувшись над Многояровым, громко прокричал Комлев и, сорвавшись голосом, уже теряясь душой, прохрипел: — Прости… Простите.
Ему показалось, что верхнее веко этого живого еще глаза чуть заметно дернулось и на зрачок набежала студеная дымка.
Нагнувшись, Комлев выхватил из полевой сумки до половины набитый кожаный мешочек и, не помня себя, кинулся прочь от этого места, в тайгу, к ручью, к свободе…
Уже уничтожив улику и возвращаясь к месту преступления, Комлев вдруг вспомнил о дневнике. Он знал о привычке Многоярова подробнейшим образом вести дневник, записывая все события дня. Да как же он сразу не подумал об этом! Вот еще одна улика! Показания самого погибшего. «Господи, где была голова? — страх и дурнота овладели Комлевым. — Надо немедленно уничтожить. Развести костер. Дневник выпал из рук в костер, когда прогремел случайный выстрел… Да, да, в костер. У костра писал Многояров, так это и было… Уничтожить, уничтожить…»
Комлев видел этот дневник, лежащий на земле рядом с начальником партии раскрытым и обрызганным капельками крови.
Смеркалось, когда, заплутавшись, Комлев все-таки вырвался из тайги. Тайга водила его никак не меньше трех часов, и в этом почувствовал он сердцем дурное предзнаменование. Гробовая тишина стояла вокруг, даже шум большой воды не нарушал эту тишину, а как бы углублял ее. Сосна, под которой лежал Многояров, издали была траурно-черной. Вырвавшись из чащобы и увидев чистое место — сосну, взлобочек, с которого стрелял, Комлев с трудом перевел дыхание и почувствовал даже какое-то радостное облегчение. Забыв сбросить рюкзак, он так и шастал с ним и теперь только ощутил, как лямки огненно жгут плечи.
Он не спеша шел к месту убийства, по-походному прихватив лямки большими пальцами и чуть оттянув их, но чем ближе подходил к черной сосне, тем быстрее и беспокойнее становился его шаг.
Многоярова под сосной не было.
Комлев замер, голова его словно бы разом вспухла, в нее молотом колотила кровь.
«Медведь! Неужели медведь? Ну, конечно, медведь! Вот и хорошо, вот и концы в воду». Беспокойный ток крови все еще не унялся, но Комлев снова почувствовал облегчение.
«Где дневник? Теперь все в дневнике…»
Дневника не было. Не было на месте и карабина, и рюкзака не было.
И вдруг Комлев ясно увидел в ночи улыбку Многоярова, спокойную улыбку. Геолог стоял за ближним оскалком медленно поднимал карабин, выцеливая его, Комлева.
Лицо Многоярова было в крови, и руки клейко пристыли к оружию, черному от запекшейся крови. Пуля, не причинив боли, навылет прошила горло Комлеву, и он, дико закричав, кинулся в тайгу, в чащобник напропалую, обрывая кожу на лице. Падая и спотыкаясь, бежал не разбирая дороги, только бы подальше от этих черных сосен и светлых в ночи скал.
2–3 октября, вверх по рекеК селу Нега Глохлов подошел на закате. Темный окоем, чернильно-синяя даль и холодная зыбь реки, переходящая в острую, стального цвета волну, не нравились Глохлову. На Авлакан ложилась непогода.
Как по речке
По быстрой
Становой едет
Пристав!
Ой, горюшко, горе,
Великое горе.
— Слышу, кто-то натуральным порядком оглашает окрестности стуком мотора. Вышел, однако, поинтересоваться, откуда этот звук. И вот, пожалуйста, — здравствуйте. Доброго здоровья вам, Матвей Семенович, — на берегу стоял Егоров, тот самый, которому вез Глохлов собольи капканы. Лодка с заглушенным мотором, но все еще ходко шла к берегу. Егоров, продолжая глядеть на Глохлова, ловко подхватил чалку и проворно вынес на скрипучий галечник.
— Здравствуй, Евстафий Данилыч, — Глохлов вышел из лодки, от долгого сидения ноги занемели, мелкими иголочками покалывало икры и берег чуть-чуть покачивался. — Капканы привез вам.
— Вот уж благодарю, однако, не стоило бы беспокоить себя по столь незначительным поводам.
— Как живете, Евстафий Данилович?
— Вполне определенно, Матвей Семенович. Как говорится, с переменным успехом и без потерь. У Клавдии Евгошиной, работника прилавка, двойня родилась.
— Об этом слышал, надо зайти поздравить. Как с порядком?
— Блюдем, Матвей Семенович, насколько позволяют наши способности и сознательность наша. Однако, конечно, бывают акцизы, но не так чтобы в полное нарушение законности, а по причине нрава и характера, а также потребления…
— Как с вином? — продолжал спрашивать Глохлов, по обыкновению внутренне улыбаясь на витиеватость речи своего добровольного сотрудника. Егоров десять лет исполняет должность общественного уполномоченного. И за ним уже прочно закрепилась новая «уличная» фамилия — Милиционеров.
— С вином хорошо. То есть в смысле продажи и выполнения государственного плана. По потреблению населением бывают, однако, некоторые сакраментальные излишки, приводящие к общественным и семейным порицаниям и нелицеприятным объяснениям, — будучи человеком в общем-то очень неглупым, рассудительным, работящим и обстоятельным, Евстафии Данилович Егоров страдал необыкновенной страстью к многословию. Порою он так загромождал свою речь случайными, ненужными словами и оборотами, что понять его было немыслимо. Особенно усердствовал он в этом на собраниях. — По силе возможности, в конкретных вопиющих случаях, совместно с нашей советской властью, то есть председателем Совета Глебом Глебовичем, — продолжал Евстафий Данилович, — стараемся привлечь некоторую необузданную и несознательную массу потребителей на сторону трезвости и ясного восприятия нашей советской действительности. Стараемся…
— Стараются, стараются, это точно, — прыснул в кулачок невесть откуда взявшаяся «необузданная масса» — Чироня, любивший в любом качестве потереться на глазах начальства. — Стараются, товарищ гражданин майор, будто сами с Авлакана черпают…
Чироня на всякий случай обращался к Глохлову «сдвоенно»: гражданин товарищ, так и не усвоив, в каком качестве какое обязан произносить обращение.
— Здрасте, с прибытием вас, Матвей Семенович, — приподнял над головой клочкастую (собаки рвали) шапку.
— Здравствуйте, здравствуйте, — Глохлов протянул Чироне руку, и тот, смущаясь, пожал ее, виновато кося глазами. — Ну как, больше не грешим? Урок на пользу? А? — Майор улыбался.
— На пользу, — стеснительность изнуряла Чироню, он краснел и словно бы от холода ежился.