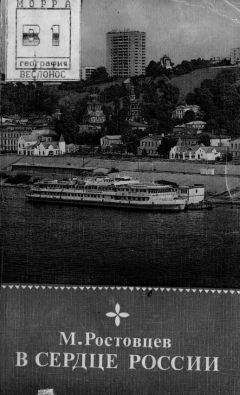Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
«Двенадцать устьев промыть надо, — думал Комлев. — И еще два раза по двенадцать. Поначалу пройду все устья». Николай ловко, одним наплывом снял «хвосты». Шлих был загляденье. «А потом поднимусь выше… Сумею ли пройти все отметки? А может быть, оставить на завтра? До Сосновой кулижки — рукой подать, можно и завтра пополоскаться. А если мороз? Набросится как рысь!..»
Зимы Комлев боялся. Он уезжал из тайги каждый раз до больших холодов. Каждый раз осенью, когда мороз начинал выбеливать землю и определять тоненький припай на ручьях и реках, Комлева охватывал страх: а вдруг разом ляжет снег, завернут морозы и зимняя тайга, замкнув ледяной круг, не выпустит от себя? Вот и сейчас эта мысль холодом обожгла сердце. Нынешний полевой сезон не в пример прежним затянулся, а теперь вот Комлев сам рассуждает над тем, задержаться ли у ручьев еще и на завтра или закончить работу сегодня.
«Конечно, сегодня! Только сегодня! Работать, работать! Мыть и мыть. Как можно больше. Так надо. А зима что? Не будет рисковать Многояров. Уйдет к эвенкам… Тут до Уяна один день ходьбы… Выйдем! Не будет рисковать Многояров…» — думал Комлев, а сам все мыл и мыл породу.
Многояров спустился к Авлакану, прошел песчаной косой к Сосновой кулижке. На косу наваливались и оседали с хрипом темные волны. Авлакан тут был широк и свободен. Хмурое низкое небо не отражалось в реке, вода была густо-фиолетового цвета. Цвет этот еще больше оттенялся белыми барашками волн и густыми обмылками шуги. Угрюмо катил свои воды Авлакан, предсказывая близкую непогоду, а может быть, и приход зимы. За Уяном даль была затушевана косыми черными полосами. А сам хребет будто бы отдалился, вмазавшись в небо лохматой таежной гривой. У гольцов Многояров оставил рюкзак, подвесив его высоко на дерево. Сунул в полевую сумку банку тушенки, несколько сухарей, сахар и ушел налегке в тайгу.
Комлев мыл породу. Никогда еще не видел он столько золота. Ни на Алдане, ни на Колыме, ни даже на Голубых ручьях, где в руки ему дался самородок в сто двадцать граммов. Такого, как тут, нигде не было.
Здешнее золото с каждым отмытым лотком шло гуще и гуще. Отобрав шлих, замаркировав его и спрятав, Комлев снова начинал мыть породу. Он не чувствовал холода, ломоты в руках, он потел, и крупные капли падали с красного его лица в лоток, в золото. Комлев потерял счет времени, метался от одного ручья к другому, от одной точки к другой. Но везде, куда бы ни сунулся лопатой, везде было золото, много золота…
«Ишь ты, — думал он в пылу работы, — нашел Николаич дурачка. Что ж я, не понимаю, что слава и почет — геологу, может быть, и премию дадут. За премию можно… Но ничего, я ее, премию, сам возьму. — Словно в бреду проходили и гасли мысли, и только одна неотвязно стояла в мозгу: — Золото! Сколько его тут! Сколько!»
И он мыл и мыл в жару, в липком, застившем глаза поту, в бледно-желтом тумане. Такой вот туман окружал его когда-то в детстве, тогда он болел корью.
Всегда спокойный на людях, даже немного безразличный, когда в шлихах, отмытых им, появлялось золото, тут Комлев потерял всякий контроль над собой и самообладание. Может быть, давало о себе знать напряжение нынешнего сезона. Шлиховал он этим летом необычно много, и с конца июля почти в каждом шлихе были сначала знаки, а потом и само золото с крупным выходом.
Комлев мыл и мыл… И каждый раз, когда к уголке лотка вялым светом начинал тлеть песок, легкий озноб пробегал по спине к затылку. Он нервно проглатывал разом скапливающуюся во рту слюну и замирал, охваченный азартом. Такой удачи он еще не знал за все полевые сезоны.
Увлечение золотом, перешедшее потом в больную страсть, началось лет пятнадцать тому назад. Тогда, шлихуя один из ручьев, он отмыл небольшой, с ноготь, самородок. Повертел его в пальцах, покатал в ладонях, ощутив какой-то жар от прикосновения к этому невзрачному «камушку», и, оглядевшись вокруг, положил находку в нагрудный карман. Потом в тот же карман, но уже тщательно завернутый в тряпицу, попал золотой песок, а там удалось намыть «для себя» еще и еще…
Отмыв лоток, он присаживался на пятки, широко разводил колени и доставал из ширинки штанов кожаный мешочек. И снова к горлу подступала сладострастная слюна, и озноб катился по спине и затылку…
В таком положении и застал его Многояров, Комлев только-только вытянул кожаный раструб мешочка и двумя пальцами раскрыл его. За шумом воды (тот ручей падал, споткнувшись на каменном порожке), за шумом тяжело пульсирующем в висках крови Комлев не услышал легкого шага геолога. Золото отняло осторожность.
— Так… — сказал Многояров.
Комлев вскинулся и помучнел до корней волос, даже воспаленно-красных рук его коснулась бледность.
— Так!..
Первым желанием Комлева было схватить карабин, что лежал у ног, и разом выпустить обойму в лицо Многоярова. В ту снова кинувшуюся в глаза коричневую родинку у правого уха. Но он, сам не понимая для чего, вдруг улыбаясь и заискивая, забормотал о том, что отмыл уже тридцать четыре шлиха и осталось еще только два. И, окончательно теряя голову, глупо повел рукою.
— Вот маленечко решил и для себя отмыть… на память, — мелкий смешок забился в горле. — На память… шлишочек… От многого… немножко… да…
— Давай сюда, — Многояров протянул ладонь.
Комлев зашарился по карманам, сунулся за пазуху, подергал нервно плечами и запустил руку в ширинку штанов. Он попробовал сорвать мешок с опояски. Острой болью отозвались не поджившие еще натертые ранки, но он все тянул и тянул мешок, захватив его в ладонь и понимая, что не сорвет его и даже не вынет, для этого надо было снова присесть на пятки и широко развести колени. Точно так, очень давно, прятали в кожаных мешках под мошонкой золото зимогоры.
Комлев, унижаясь глазами, беспомощно посмотрел на Многоярова.
— Снимай! — Краска заливала лицо Многоярова. — Снимай штаны!
— Алексей Николаич… — одним горлом крикнул Комлев.
— Снимай!
Красные, вспухшие от холодной воды, с неживыми синими ногтями пальцы сами по себе отпустили ремень, расстегнули пуговицы. Комлев проводил ладонями до сапог брюки и только там, у колен отпустил их, и они соскользнули на сапоги, на землю, расстегнул пуговицы на кальсонах, повременил мгновение и, багровея лицом, выпустил из рук гашник.
— Вон оно что?! У тебя грызь-то золотая, Коля!
Мелко-мелко дрожали бледные, тощие ноги Комлева. И эта трусца, поднимаясь выше, уже била все его тело.
Стыдясь сейчас только своей наготы, Комлев поспешно распутывал хитроумные узлы опояски. Потом снял мешок и протянул его Многоярову. Тот не торопясь обошел разделявший их бочажок, перепрыгнул через ручей. Все это время Комлев стоял с протянутой рукой, мелко дрожа и пригибаясь, чтобы ухватить и подтянуть кальсоны. Но так и не подтянул. Брезгуя, Многояров взял меток и, круто повернувшись, пошел прочь.
Комлев кинулся за ним, запутался в штанах и упал…
— Иди к гольцам, — сказал Многояров, не оборачиваясь. В следующее мгновение, подхватив кальсоны и штаны, Комлев снова попытался бежать, но теперь уже споткнулся о карабин, снова упал, простонав:
— Николаич… Алеш-а-а-а. Прости! Прости меня! Только для памяти! Для памяти только брал, — уже кричал, и слезы душили его. — Прости-те-е-е, Алексей Николаич!
И вдруг завыл зверем, вытягивая вперед руки и пытаясь ползти за Многояровым.
— Прости-и-и-и-те-э-э-э!
Ровно и высоко горел костер, предрекая на завтра добрую погоду.
Многояров вытряхнул из мешка продукты. Если расходовать экономно, чуть-чуть подтянув ремни, до Ведоки должно хватить.
«Завтра надо обязательно быть на Уяне, — думал он, вороша прутиком угли в костре. Делал это без какой-либо надобности, машинально. — Прошел ли назад, к Буньскому, Глохлов? Вряд ли… А что с Комлевым? Как быть с ним? Столько лет в экспедиции!.. Шлиховщик экстра-класса! Вот тебе и экстра… — Вспомнил тощие белые ноги Комлева, давно не видевшие солнца. Ноги, которые тряслись мелкой дрожью, готовые подломиться. — Впервые или нет? — задавал в который уже раз вопрос и тут же твердо отвечал себе: — Нет, не впервые».
Вспомнилось, как лет пять назад один из экспедиционных рабочих сказал: «А ведь Комлев-то фармазонщик — у него к рукам золото липнет». Многояров тогда резко оборвал сказавшего, был тот человеком завистливым, подленьким и трепливым.
Пустых разговоров Многояров не терпел, не терпел он и полушуток, полунамеков. От них всегда рождаются сплетни, гадкие интрижки.
— Ну, бейте! Бейте меня! — голос прозвучал из темноты неожиданно. Многояров не узнал. Будто бы от этого голоса опал в костре огонь, и неуютно стало в мире, сырая темнота гуще, а ветер, что гнал в понизовье студеную воду угрюмой Авлакан-реки, холоднее. Комлев стоял в том неуютном мире, опустив к ногам рюкзак, чуть перекособочась плечом, на котором висел карабин, и бездумно, не отрываясь, глядел на огонь.