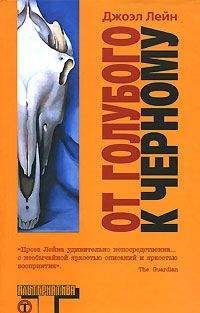Георгий Суфтин - След голубого песца
— Голубкова нутряной огонь палит. Лечить человека надо...
— А Ясовей?..
— Ясовея-то не надо лечить. Он уехал.
— Куда?
Из сбивчивого рассказа Вынукана Нюдя с трудом поняла, зачем понадобилось Ясовею ехать в такую пору, когда и птица, пожалуй, не каждая доберется из глубины тундры до Нарьян-Мара. Она пыталась расспросить подробнее, но старик разводил руками.
— Уехал и всё. Меня-то не спрашивался...
Галина Васильевна собралась быстро. Вынукан усадил её на сани, осмотрел со всех сторон.
— Не упадешь, хабеня?
— Не упаду, вези быстрее...
— Не сам везу, олени везут. Им скажи, послушаются ли... Во время остановки для передышки оленей Вынукан спросил Галину Васильевну:
— Ты, доктор, все болезни лечить можешь?
— Раз называешь доктором, значит, должна лечить все болезни, — смеясь, ответила она.
Вынукан подумал.
— Трудно, однако...
Он ещё подумал.
— Холиманко и то все не умеет. Неужто ты сильнее шамана?
Как ему разъяснить доходчивее и проще разницу между шаманом и врачом?
— Видишь ли, дорогой Вынукан, врачи пользуются наукой...
— Вижу, в бумагу глядишь, непонятные слова говоришь... Шаман бумаги-то не знает, а с Нумом тоже непонятно разговаривает...
Галина Васильевна не нашла, что ещё сказать старику.
В палатке после осмотра больного пили чай. Лёва в честь приезда докторши прифрантился, облачился в костюм, нацепил галстук, из грудного кармашка выпустил уголок цветного платка. Он галантно угощал Галину Васильевну печеньем и весь расцвёл, когда она поинтересовалась типографским производством. С таким воодушевлением он начал объяснять процесс создания газеты, с особым шиком щеголяя при этом специальными терминами, что даже Голубков не выдержал, подал голос из-под вороха мехов.
— Из тебя бы, Лёва, профессор вышел лучше, чем наборщик.
— А что? И вышел бы. Это вы меня всё недооцениваете... Михайло Степанович...
— Переоценю, переоценю, дай срок...
Вынукан пил чай с блюдечка, вкусно сосал сахар и поглядывал на всех с простодушным любопытством. Он прислушивался к разговору, а сам молчал. Неожиданно он произнес:
— Какие люди непонятные...
— Кто это непонятный, Вынукан? — спросила Галина Васильевна.
— Вы все непонятные. И ты, и Михайло, и он, из которого профессор вышел... Смотрю на вас и думаю: в тундру из города приехали, в палатке живут, по чумам ездят, газету для ненцев пишут, учат... А самим какая польза? Почему так делаете, в голову мою не входит... Ты ненцев лечишь, ничего не берешь. Купец товар привозил, надо — брал и не надо — брал. Холиманко злого духа выгонит — оленя дай, мало. Мяса, сала дай, шкуру дай — возьмет, не откажется. Пушнины попросит. Откажешь — обидится, другой раз камлать не вызовешь. А ты такая тоненькая, легкая, дунь ветром — унесет, по тундре ездишь, не боишься. В городе рогаткой ешь, на полотне спишь, у нас и айбурдать научилась, и в малицу завернешься, к чумовому шесту прикорнешь, тут тебе и кровать. Ко всему привыкла, себя не жалеешь, нам добро делаешь. Чудно нам. Не видали мы таких людей раньше. Не было их. Откуда взялись?
Галина Васильевна была поражена словами Вынукана. Она поняла, какой глубокий переворот происходит в сознании этого человека. Даже Лёва притих и такой благоговейный восторг отражался на его широком белобровом лице, что Голубков не удержался, пошутил из своего мехового логова:
— Пиши, Лёвушка, стихи...
Семечкин покраснел, как сопка на закате солнца. Стихи были его тайной, которую он прятал от всех. А тут при докторше...
— Вы уж скажете, Михайло Степанович...
5
Весна шла дружная. Под окном Галины Васильевны вытаяла большая полянка. Галя глянула в окно и ахнула: подснежники! Нежно-голубые, чистые-чистые, они весело тянулись к солнцу. Не беда, что кругом еще жесткий снег и сердиты утренние морозцы, отважные разведчики весны подают радостную весть: жизнь побеждает. Как была, в халате и домашних туфлях, Галя выбежала на полянку и долго стояла, восхищаясь красотой первых цветов, их храбростью. И было хорошо на сердце. И становилось теплее от одного взгляда на покрытый цветами клочок очнувшейся от сна земли.
— Нюдя, идите сюда! Вы выдели?
— Цветы? Рано они в этом году появились...
— Да, и как хорошо!
Нюдя вздохнула.
— Хорошо, конечно...
— Вы расстроены, Нюдя?
Молодая женщина будто этого вопроса только и ждала, всхлипнула, плечи её вздрогнули.
— Уехал, даже не сказался... А такая скорая весна... Как проберется... Застрянет где, в болото попадет... Утонет в реке... Столько времени прошло, всё нет...
— Ну зачем так расстраиваться, милая. Приедет. Ведь не мальчик, не впервые в тундру попал.
Сквозь слезы Нюдя посмотрела на Галину Васильевну.
— Вам хорошо, он вам чужой...
Галя усилием воли сдержала себя. Как она может так говорить! Чужой. А не о нём ли мечтала наивная девочка Галя долгие годы, даже не зная, где он живет и помнит ли её. А не к нему ли стремилась она, собираясь в далекий и неизведанный путь, на самый край земли, в страну метелей и холода. Ты любишь его, мужа. Но что бы ты сказала, если узнала, что, может быть, не меньше тебя его любит другая, которая никогда не будет его женой?
— Он мне не чужой, Нюдя. Он мне друг, хороший, большой друг...
Нюдя ничего не ответила. Поняла она, почувствовала женским любящим сердцем, что делалось в эту минуту в другом женском сердце, или нет, знает только она. Ушла замкнувшаяся, безмолвная. Шуршание жухлого снега под ногой, удаляясь, затихало.
«Ведь я не обидела её ничем! Ничего ей плохого не сказала?» — думала Галина Васильевна, медленно шагая к берегу моря. Огромная серая скала нависала над кипящим внизу морским прибоем. Галя любила, забравшись на неё, смотреть, как грузные холодные волны подбегали к подножию скалы, ударялись с могучим гулом и рассыпались пенистыми брызгами, долетавшими до самой вершины. И сейчас Галя неотрывно смотрела на эту безостановочную борьбу камня и воды. Соленые брызги обжигали её лицо. И далекий голос, такой знакомый и родной, звучал, заглушаемый грохотом прибоя: «У нас море неспокойное, сердитое. Всё стучит и стучит в каменистый берег. Ты стоишь на скале, а брызги так тебя всего и обдают. Хорошо у нас»...
— Да, хорошо, — беззвучно произносит Галя.
Уж наступает вечер, солнце опускается к закату, а она, как завороженная, сидит на скале над неласковым студеным морем. Такой закат! Такой закат можно видеть лишь здесь, в Заполярье. Над густо-сиреневой, взъерошенной крутыми волнами морской далью лиловые облака, позолоченные снизу. А между ними и морем — малиновое марево, за которым скорее угадывается, чем видится, опускающееся за горизонт солнце.
Галя уходит со скалы, когда краски заката тускнеют, облака становятся свинцовыми и, кажется, опускаются прямо в море. Она зябко кутается в пуховый полушалок. Идет в свою больницу. Там натоплено и пахнет лекарствами. Больные тихо лежат в постели. Один Сядей-Иг, осунувшийся после болезни, с обвислыми щеками, сидит в халате у окна.
— Хад скоро придет, — говорит он.
— Хад? Кто такой? — удивляется доктор.
— Пурга по-нашему так называется. Седая старуха с косматой головой...
— Почему же вы думаете, что она придет?
— Солнышко тревожным спать ушло. Красным облаком закуталось. Да и поясницу ломит...
Он ложится на койку, пружины жалостливо скрипят.
— Доктор, ты мне дай стеклянную палочку, — просит Сядей-Иг. — Посмотрю, сколько прибавилось у меня здоровья.
— Как вы узнаете, сколько прибавилось здоровья?
— Светлый столбик короче стал, здоровья больше. Хитрость невелика. Думаешь, только ты можешь узнавать? — кичится Сядей-Иг своей догадливостью. — В чум поеду, ты мне отдай эту стеклянную палочку. Сам буду свое здоровье узнавать...
— Градусник, Сядей-Иг, не мой. Он принадлежит больнице. Я его не могу отдать.
— Ну, не можешь! Мяса дам, рыбы дам, пушнины дам, чего скажешь...
— Не продается градусник. Он нужен для других больных...
— Нужен для других... Сядей-Иг просит, не кто-нибудь... Другие и без градуса полежат, чего им сделается...
— Довольно пустяки болтать, — резко обрывает его Галина Васильевна. — Вы поправились, скоро вас выпишу. Готовьтесь к отъезду.
Сядей-Иг обиделся, замолчал. Девчонка, а какая строгая, хуже Тирсяды. Злого духа-то выгнала всё-таки. Холиманко не мог, а она выгнала. Убежишь, когда такая сердито посмотрит. И без всякого градуса убежишь, будь он неладен...
6
Вынукану сказал бригадир:
— Дежурь внимательно. Не задремли. Пурга собирается, телят уберегай. Смотри, чтобы новорожденные не потерялись, не замерзли. Да волков остерегайся, они любят такую погоду.
Вынукану стало смешно.
— Ты меня, как ребенка, учишь. Вроде я и в стаде не бывал. Знаю маленько-то, как пасти надо.
— Знаешь, так и ладно. А сказать надо. Не собственное стадо идешь пасти, колхозное.
Не стал спорить старый оленевод. Кто его знает, видно, так полагается. Объехал вокруг стада, местность осмотрел, буераки, кустарники, пригорки — все заметил, собак пустил. Теперь поужинать можно. На небо глянул — уй, некрасиво: пурга будет, держи ухо востро.