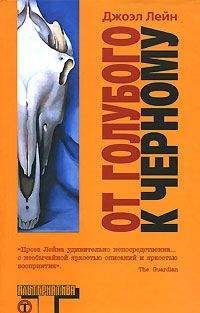Георгий Суфтин - След голубого песца
— Я не кислый, горький. Головой маленько-то работаю. Не мешай.
Он отвернулся, постучал согнутым пальцем о табакерку, зарядился крепкой понюшкой, собрал широкое лицо в десятки мелких морщинок.
7
Нюдя плакала у постели Ясовея. Он держал её руку в своей, улыбался и не знал, как утешить жену, какое ей слово сказать. Вот всегда они такие, женщины, плачут понапрасну, страхов себе всяких навыдумывают... Нюдю утешала Галина Васильевна.
— Всё в лучшем виде. Отдохнет денька два-три, встанет, может опять ехать, если захочет... Если ты его отпустишь, Нюдя, — поправилась она с улыбкой.
Нюдя тоже улыбнулась.
— Отпустишь не отпустишь, он всё равно поедет. Он такой...
— Он такой, — подтвердила Галина Васильевна. — Ничего, всё в порядке. Поправляйтесь, Ясовей. Я больше не нужна, ухожу...
После ухода доктора Нюдя снова заплакала. Ясовей удивился. Что с ней? Раньше не была такой плаксой.
— Плакса же ты стала, моя маленькая. Почему так, объясни...
Она всхлипывала и прижималась щекой к его щеке. И Ясовей услышал, как она тихо-тихо сказала:
— В такое время уехал невесть куда. А если бы случилось что, оставил бы меня с малышом...
— Что? Повтори, что ты сказала...
— Скоро у тебя сын будет, вот что...
За окном новые сумерки собирают густую синь. Над тундрой веет дыхание весны. Наполняются вешней водой реки. Вспучившись, темнеют озера. Набухают почки прибрежного тальника, готовые вот-вот лопнуть. Исхудавшие за зиму олени скопом кидаются на проталины, где дерзкая зелень лезет прямо из-под снега. Скоро, скоро просторы тундры огласятся журавлиным клекотом, на глади чистых озер будут плескаться белоснежные лебеди. Жизнь хороша. Так хороша жизнь, что хочется петь полным голосом, всем сердцем.
Вода стремится к морским просторам,
Назад вернуться она не может.
Веселый ветер летает всюду,
Он много видит, он много слышит
Ночами месяц над тундрой светит,
Плывут сияний седые космы.
Кому доверить тоску девичью,
Кто о любимом сердцу расскажет?
Звучит песня в мягком рассвете наступающего дня или в сердце она звучит — Ясовею не разобрать. Он ласково гладит руку жены. Какое сегодня хорошее утро, нежное, теплое, как ладонь любимой.
Глава двенадцатая
Песня, прозвеневшая в палатке
1
Шурыгин и Лестаков приехали в тундру в тот момент, когда в долине Янзарей-реки случилось происшествие, наделавшее шуму. Стада колхозов вышли в этом году на летние пастбища по заранее намеченным маршрутам. Тундровой Совет указал пути летних кочевий и единоличникам. И вот вышло так, что Хабевко, стремясь воспользоваться лучшими пастбищами, выгнал свое стадо наперерез стадам колхоза «Яля илебц» и направил его по колхозному маршруту. Когда пастухи «Яля илебца» обнаружили вытоптанную землю, они пришли в неописуемую ярость. А Хабевко невозмутимо посапывал носом да помаргивал куропаточьими глазами.
— Нашел землю. Богатую. Ягеля полно, травы полно, пусть едят олени, пусть жиреют.
— Так эта земля нашему колхозу отведена. Совет маршрут указал, бумагу выдал...
— Мне та бумага не видна. Хорошую землю увидел, погнал оленей. Ты найдешь хорошую землю, тоже гони. Вот тебе и весь маршрут...
По примеру Хабевки и некоторые другие единоличники погнали стада в сторону отведенных колхозу угодий. Один по одному оленеводы стали скопляться в месте встречи Хабевки с колхозниками. Назревал серьезный конфликт. Тундровой Совет ещё не успел перекочевать на летние пастбища и был далеко. Колхозники послали гонца к Ясовею. Учитель незамедлительно приехал. Он изумился наглости Хабевки.
— Как ты смел стравить чужое пастбище? — спросил Ясовей, еле сдерживая гнев.
— Не слыхал, когда они его купили, — ухмыляясь, ответил Хабевко. — Мои олени раньше пришли, всё съели, я не виноват...
И тут произошло то, о чём впоследствии говорила вся тундра. Разгневанный до предела Ясовей объявил, что он в порядке раскулачивания отбирает это стадо, как принадлежащее кулаку Сядей-Игу, и отдает его малооленным беднякам.
К вечеру от тысячного стада остались два тощих быка и одна старая важенка. Хабевко стоял на выбитой оленьими копытами земле и не мог прийти в себя. Нижняя челюсть у него отвисла, руки беспомощно болтались. Не в силах уразуметь, что произошло, он приехал к Сядей-Игу.
— Оленей-то нету, хозяин, — пролепетал он.
— Как так нет? Чего ты глупое болтаешь?
— Ясовей забрал всех...
С трудом Сядей-Иг понял, что произошло. А когда понял, глаза его налились кровью. В бессильной злобе он хватил хореем по земле. Негодование оленщика обрушилось на голову Хабевки.
— Облезлая куропатка, это ты виноват. Зачем отдал оленей? Почему сразу не приехал мне сказать? Иди, чтобы глаза мои тебя не видели.
— Куда, хозяин, пойду?
— Куда хочешь. Ложись под любую кочку и подыхай...
Хабевко ушел. Ошеломленный всем происшедшим, он потерял способность соображать. Лишь одна мысль назойливо и неотступно билась в голове: Ясовей во всём виноват, он разорил, он пустил по миру... И нарастала против Ясовея злоба, она душила, глодала сердце.
Сядей-Иг сам проверил достоверность сообщенного Хабевкой. Он не поехал ни в тундровой Совет, ни к колхозникам, покружился около стад единоличников, где собственными глазами видел своих оленей с клеймом Хабевки, и вернулся в свой чум. Три дня он лежал без движения, отказываясь от пищи. Мунзяда перепугалась, хотела ехать за докторшей. А Сядей-Иг встал, потребовал мяса, плотно поел и сказал:
— Им не разорить Сядея. Он не безмозглый песец, который сам лезет в кулему... Одно стадо взяли, пусть. Других не возьмут, найдут ли за Большим Камнем... Где им найти!
2
Ячейка собралась в школе. День был невеселый, серый. Мелкий дождик моросил с утра. Оконные стекла запотели, и в классе стоял тусклый полумрак, Ясовей сидел на низенькой ученической парте. Ему было тесно и неудобно, подогнутые ноги затекали.
— Коллективизация оленеводческих хозяйств в нашей тундре, товарищи, развертывается полным ходом. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем...
Сухие, шелестящие, как прошлогодняя трава, слова Лестакова пролетали, не касаясь сознания. Но вот Ясовей услышал своё имя. Прислушался. Лестаков со всей силой своего ораторского красноречия расписывал проступки учителя. Он повторил все обвинения, изложенные в докладной записке окружному, потребовал исключения Ясовея из партии, как подкулачника, и привлечения к уголовной ответственности.
— Можем ли мы допускать, чтобы классовые враги и их прихвостни безнаказанно орудовали и срывали дело сплошной коллективизации? Нет, мы не можем этого терпеть, товарищи! И мы обязаны с корнем вырвать...
Ясовей сидел ни жив ни мертв. Побледневший, со стиснутыми зубами, он уставился на Лестакова так, будто видел привидение. Лица у всех были серыми, окаменевшими. Шурыгин посматривал на Ясовея, стараясь перехватить его взгляд, но Ясовей не видел ничего, кроме тонких губ Лестакова, клеймящих пособника классового врага.
— Самый тот факт, что окружком поручил ячейке рассмотреть вопрос о Ясовее, требует от вас проявить полную непримиримость к наглым вылазкам кулака и его агентуры, — заключил Лестаков свою речь.
Лаптандер постучал рукояткой ножа о стол.
— Кто будет говорить ещё?
Ясовей ничего не запомнил, что говорили его товарищи по ячейке, слова летели и таяли, как хлопья снега, в голове всё перемешалось. Он вышел из комнаты, даже не дождавшись решения, машинально зашагал по коридору, оказался на крыльце, направился в тундру. Не замечал, что дождь хлестал ему в затылок, сразу намокшие волосы прядями свисали на лоб, по лицу текли дождевые струйки, забираясь за ворот. Под нерпичьими тобоками хлюпала грязь, на подошвы налипала тяжелая глина. Он брел вперед, как лунатик, без цели, без смысла.
Шурыгин догнал его, осторожно тронул за рукав.
— Ты куда, Ясовей?
— Что? — он посмотрел на Шурыгина отсутствующим взглядом, продолжал шагать.
— Да остановись ты! Вернись домой, вымок весь...
Лицо Ясовея скривилось в улыбку.
— Верно, страшно вымокнуть... Дождь...
Он круто повернулся к крыльцу.
Нюдя испугалась, увидя Ясовея. Она смотрела то на Шурыгина, то на мужа, не понимая, что произошло, но чувствуя, что произошло неладное. Чтобы успокоить её, Шурыгин сказал:
— Ты бы, Нюдя, самоварчик поставила, нам с Ясовеем пить захотелось...
Нюдя вышла на кухню. Тогда Шурыгин взял Ясовея за плечи.
— Ты, брат, не распускайся. — Возьми себя в руки. В жизни и не такое случается...
— Значит, всё? — выдавил из себя Ясовей.
— Что всё?
— Достукался. В классовые враги попал...
Взъерошенный, позеленевший Ясовей не походил на себя. Скулы его обострились, глаза сузились и лихорадочно горели. Шурыгин усадил его на стул, сам сел напротив.
— Вот что, друг, ты мужчина, а не подол паницы, так и будь мужчиной. Разве можно так раскисать! На, причешись...