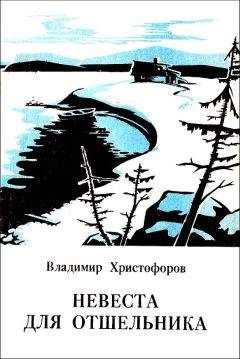Владимир Христофоров - Деньги за путину
Шелегеда яростно поскреб небритую щеку:
— Что не любят — то не любят. Это уж верно. Только меня не перекроишь. Поздно.
— Чепуха. Нет людей каменных. Я вот чувствую: вчера был одним, а сегодня во мне что-то изменилось. И завтра изменится, и послезавтра. Так со всеми.
— Может быть, — сказал Шелегеда и почему-то опять вспомнил о квитанциях.
— Давай напрямик. Что произошло в то первое утро, когда ты оказался на неводе?
Шелегеда враз нахмурился, как бы отдалился.
— Как вы все надоели мне с этими вопросами! Не лезь, Севка, куда не следует. Это мое дело. Стратегическое.
Савелий вздохнул:
— Не хочешь. Ладно, не будем.
Шелегеда резко сел:
— Вы пришли на путину заработать деньги. Так?
— Ну, так.
— Вот и я хотел, чтобы вы заработали.
— Корецкий тоже хочет.
— Тоже сравнил. Тот прямой дорогой шагает в тюрягу, а я своим горбом, вот этими жилами, — Шелегеда для убедительности показал свои бугристые ладони, — вот этими жилами копейку зарабатывал. И заработал — будь спок!
— Так на этом в вас разница и кончается. В остальном все одинаково — деньги! Больше, еще больше! Корецкому нужна машина, а тебе, наверное, лошадь или корова; тому — собственная дача, а тебе — пасека, чтоб, значит, еще доход был. А видеть хорошего ничего не видели. Есть такие уголки на земле — закачаешься…
— Понесло тебя, ну и ну… Свихнулся после вчерашнего? Ты-то куда деньги копишь?
— Я же говорил, купить классную аппаратуру, поездить по Чукотке, поснимать.
— Не виляй, фотография тоже дело прибыльное.
— Ну и чудак! — воскликнул Савелий. — Да я бы сейчас все заработанные деньги отдал за то, чтобы мои фотографии о Чукотке повесили, скажем, в фойе Большого театра. Чтоб люди, значит, останавливались и удивлялись: есть, оказывается, и такая красота. Чтоб потом не могли заснуть…
Шелегеда почмокал губами:
— А ты книг много читал?
— Их надо читать все время. Чем больше читаешь, тем больше хочется.
— А мне вот много не приходилось, — вздохнул Шелегеда. — Всю жизнь вкалываю, как карла.
— А музеи. Там такие вещи! Тоже надо успеть. А еще учиться, чтоб мощная была специальность. А еще детей вырастить…
— Я, между прочим, токарь-универсал. На всех, какие есть станки, работать могу.
— Ого! А чего на рыбу занесло?
— Так я и рыбак. Удачливее на всем побережье не найдешь. Места чую за три километра.
— Да чего говорить, ты вообще талантливый человек, — засмеялся Савелий. — На все руки. Во времена нэпа быть бы тебе богатейшим купцом.
— Ну, спасибо, договорились. Давай пить чай, вон Нноко какой костер распалил. Ничего, вот женюсь, и все у меня будет как следует. Приходи на свадьбу, приглашаю.
— Спасибо.
Прошел второй ход кеты. Ждали последнего, третьего. Но особо не надеялись. Дьячков успокоил:
— Еще есть один ход — мошкинский. Слыхали? Четвертый. Чего, так его подождем.
Шелегеда всерьез поддакнул:
— Ага! Запасемся зимней одеждой, уголька подвезем…
— А на катер ледорез поставим, — буркнул Слава Фиалетов.
Остальные, не веря в серьезность сказанного, все же незаметно разволновались: этим колхозникам все может взбрести в голову, им чего — лишь бы план.
— Мне с первого сентября в отпуск, неожиданно проснулся Омельчук. — Я не могу.
— И нам, и нам, — послышалось с нар.
— Пока не будет плана, никого не отпущу, — строго сказал бригадир, — а кто уйдет самовольно — лишится коэффициента.
— Так план уже почти в кармане.
— Чуть-чуть по-русски не считается.
Проблемы, могущие возникнуть с мошкинским ходом, обсуждали весь день, пока не явился Чаквария. Он долго смеялся:
— Слушай, бригадир. Зачем, понимаешь, травишь своих ребят? Они и так по своим женам и детям соскучились. А ты им про мошкинский… Ай-ай-ай! Такие взрослые, а как дети.
— Николай Захарович, хоть вы объясните про этот мошкинский ход.
Чаквария опять засмеялся:
— Чудаков на свете много. Живет у нас старик Мошкин. Совершенно беспечный человек. Никто не помнит, когда он и откуда появился. Отлично говорит по-чукотски, тундру знает как свои пять пальцев. Раз в год ему, как и всем колхозникам, выдают разрешение на отлов кеты для личных нужд. Сам Мошкин хоть живет одиноко, но разрешительную бумагу всегда ждет с повышенным нетерпением. С самой зимы напоминает нам о себе — как бы не забыли при составлении списков. А получив разрешение, на радостях ставит пятиведерный жбан браги и очухивается, когда бригады укладывают невода на склад. Впрочем, старик не унывает, находит укромную ото льда заводь, ставит свою исчиненную вдоль и поперек сетчонку и замирает возле нее на долгие дни. Упорству его можно позавидовать. И если вдруг чудом удается выловить кетину, Мошкин долго ходит с ней по всему поселку, давая понять, что настоящий рыбак возьмет рыбу в любое время. Да вы еще сами это увидите. Вот и прозвали четвертый ход кеты мошкинским.
Шелегеду все чаще тянуло в Энмыгран. После очередной переборки он наскоро выпивал кружку горячего чая и уходил.
— Надо же! — удивлялся Дьячков. — Бывало, за всю путину в колхоз не выгонишь. А тут… Семья, одним словом. Это хорошо.
Возвращался Шелегеда подобревшим, в чистой рубахе, выбритым. Еще некоторое время он бродил по стану, глядел в небо и вроде бы мурлыкал себе под нос какую-то песню. Но начиналась переборка, и Шелегеда вновь становился бригадиром Шелегедой.
Однажды он принес сверток и вручил его Савелию.
— Держи, гладиатор.
Савелий развернул тряпку и ахнул. Фотоаппарат «Салют»! Мечта жизни! У Савелия даже перехватило в горле:
— Да ты что! Нет, погоди, это же «Салют». «Салют», понимаешь? Высший класс! Он раз в десять дороже, чем мой ФЭД. Нет-нет, так я не возьму. Это ни на что не похоже.
Шелегеда махнул небрежно рукой, но по глазам было видно — доволен!
— Дают — бери. А то мне и этот не мудрено зашвырнуть в море.
Савелий инстинктивно отвел коробку в сторону, точно это собирались проделать сейчас же. Все заулыбались.
— Во повезло! — воскликнул Витек. — Дурак я, не взял свою «Смену». Сейчас бы, может, тоже «Салют» имел.
Корецкий пожал плечами:
— Ну и бригадир, не приведи господь. Жалеет банку икры…
— А что тут особенного? — удивился Анимподист. — Подумаешь, какие-то там три-пять сотен!
Корецкий досадливо крякнул, но продолжать бессмысленный разговор не стал — бесполезно.
Савелий долго не притрагивался к подарку, потом не выдержал, зарядил пленку. Сфотографировались вначале вместе, потом снял каждого в отдельности. И даже Сынка. Потом явился Нноко и сообщил: сегодня вечером уезжают девчата с рыббазы. Савелий чуть не выронил фотоаппарат: а как же Илона? Значит, не хочет даже попрощаться?
Вечером ноги сами понесли его на рыббазу. И долго еще не решался он показаться на пирсе, где собрались отъезжающие. Подошел катер. Высоким хмельным голосом затянула песню Маня. Было грустно глядеть на этих рыбачек. У всех у них был одинокий вид. Савелий пробился сквозь чемоданы и рюкзаки, встал почти вплотную за спиной Илоны. Она, казалось, не спешила и все глядела вдоль берега, где курился еле приметный дымок рыболовецкого стана Шелегеды.
— Илона, — тихо шепнул Савелий.
Она резко обернулась. Широко и удивленно распахнулись ее глаза. Косынка скользнула на плечи, открыв тяжелые волны ореховых волос.
— Ты-ы! — Она на мгновение ткнулась в его плечо. — Ты просто молодчага!
Савелий никак не ожидал увидеть ее такой. Он подготовил себя к тому, чтобы распрощаться как можно беспечнее. Он и на рыббазу-то попал как бы случайно. И потому растерялся.
Сипло прогудел катер. Илона вдруг решительно обхватила его шею одной рукой и сильно почти по-мужски, поцеловала в губы, на короткий миг прижалась к щеке и резко отстранилась.
— Прости меня за все, ладно? Я, кажется, тебя люблю. Нет, не то говорю. Короче, напишу до востребования, — выпалила она одним махом.
— Милая… Я буду ждать. Я ведь тебя сам…
Когда катер отошел от пирса, Савелий вдруг заорал истошным голосом:
— Ило-она! Моя фамилия Водичка. Во-ди-чка.
Из рубки высунулось должностное лицо с рупором:
— Вода? Где вода? — И все на борту посмотрели себе под ноги.
— Это фамилия, фамилия. Илона, ты поняла? — кричал, надрываясь, Савелий.
Она стояла на носу и взмахивала косынкой.
Мрачный мужик не выдержал:
— Чего орешь как резаный? Там же двигателя. «Водичка». Э-эх!.. Чего тут только не насмотришься с этими вербованными!
Савелий еще некоторое время постоял на пирсе, проклиная свою судьбу и фамилию. Потом поплелся вдоль берега, фотоаппарат на длинном ремне болтался у самой земли, иногда задевая за кочки. Но Савелий этого не замечал.
Дни становились все короче, все промозглее. В палатке с вечера засвечивали фонарь, прозванный «племянником солнца». Все понемногу устали друг от друга, подолгу лежали на нарах, разглядывая хлопающий брезентовый потолок. Пропал сон даже у Омельчука, воображение его постоянно уносило к жарким пляжным пескам. Нестерпимо раздражительным стал Корецкий. Почему-то он не мог равнодушно слушать даже сообщения радиодикторов о точном времени. Если, скажем, «Спидола» вещала: «В столице сейчас четыре утра», то он непременно со злобой реагировал: «Да хоть десять!» А когда его подушка ошибочно оказалась на другой постели, что вообще-то было нередко, Корецкий достал авторучку и прямо на середине наволочки крупно вывел свои инициалы.